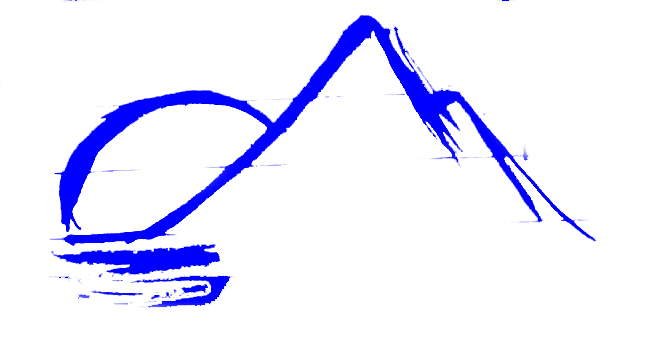Воздух рвался в лёгкие горячими, колючими клочьями. Каждый вдох обжигал горло, каждый выдох вырывался с хриплым стоном. Лес не был спасением. Лес был соучастником.
Ольга мчалась, не разбирая пути. Ноги, иссечённые острым гравием и сухими сучками, уже почти не слушались, двигались по инерции, на чистом адреналине страха. Тело кричало от боли — в боку кололо, будто всадили раскалённую спицу, в глазах стояли слёзы, сливаясь с потом и грязью на щеках. Хлопковый топ, когда-то белый, теперь представлял собой жалкое тряпье в бурых разводах земли, крови и пота. Шорты порваны на бедрах, через дыры проступали ссадины, сочащиеся сукровицей.
Ветки били по лицу, цеплялись за волосы, хлестали по оголённым рукам и ногам. Она отмахивалась, но это было бесполезно. Лес хотел её остановить. Задержать. Отдать им.
Она вбежала в заросли лещины, и мир сузился до лабиринта стволов и упругих, хлещущих прутьев. Они стегали её, оставляя на коже багровые полосы. Потом началась ежевика. Колючие усы, невидимые в полутьме, впивались в плоть, цеплялись, рвали кожу тонкими, болезненными ранами. Она слышала, как ткань её шорт с тихим треском расходилась ещё в одном месте. Боль была острой, яркой, но далёкой. Главное было — страх. Всепроникающий, леденящий, живой ком в горле. Он гнал её вперёд, заставляя переставлять ноги, хотя каждая мышца вопила о пощаде.
Не оглядывайся. Не оглядывайся. Они близко. Они слышат.
Сквозь шум крови в ушах ей чудились звуки погони — хруст веток, тяжёлое дыхание, не её. Или это было её собственное? Она уже не отличала.
Слезы текли по её лицу ручьями, смешиваясь с пылью, превращаясь в грязь. Она всхлипывала, задыхалась, но не останавливалась. Пока не споткнулась.
Корень, невидимый под слоем прошлогодней листвы и теней, резко вырос перед ней. Нога зацепилась, подвернулась в голеностопе с отвратительным, щёлкающим звуком. Мир опрокинулся, полетел кувырком. Она не успела даже вскрикнуть. Земля, небо, стволы деревьев перемешались в калейдоскопе боли и зелёного мрака.
А потом — падение. Не просто падение, а стремительное, неудержимое скольжение вниз по крутому склону. Она кубарем летела по сырой земле, мху и камням, цепляясь за что попало, но не в силах остановиться. Тело било о выступающие корни, о валуны, скрытые папоротником. Голова несколько раз с силой стукнулась о землю, и в висках вспыхнула белая, искристая боль.
Движение прекратилось так же внезапно, как и началось. Она лежала на спине в небольшом овраге, в холодной, влажной яме, на подушке из гниющих листьев. Небо, кусочками просвечивающее сквозь чёрный узор ветвей, медленно вращалось, расплывалось, темнело.
Боль отступила. Ужас тоже. Пришла тишина. Глухая, ватная, всепоглощающая. Последнее, что она почувствовала перед тем, как сознание уплыло в тёмную, мягкую пустоту, — это холод сырой земли под щекой и далёкий, нарастающий звук шагов где-то там, наверху. Тяжёлых, неспешных, методичных.
— Пятый номер, — сказала она, не глядя, когда Сергей, кряхтя, вытащил два рюкзака. Её голос прозвучал слишком громко в этой горной тишине.
— Ага, — буркнул он в ответ.
Это «ага» стало их точкой в последние недели. Вместо разговоров — «ага», «угу», «ладно». Идея этого похода родилась в одну из таких тяжёлых пауз, как отчаянная попытка всё исправить. «Нам нужно сменить обстановку, Сереж. Встряхнуться. Вспомнить…» — «Вспомнить что?» — «Как это было раньше». Он тогда только пожал плечами: «Попробуем».
Избушка оказалась тесной. Две узкие кровати, столик, печка-«буржуйка». Ольга сразу отметила про себя: кровати. Не двуспальная. Как будто кто-то заранее знал.
— Красиво, — произнёс Сергей, глядя в окно на темнеющие хребты. Его похвала прозвучала формально, как заученная фраза из разговорника туриста.
— Да, — согласилась Ольга. — Приступим?
Она принялась расстёгивать свой рюкзак — тёмно-синий, выверенный до последленного карабина, символ её контролируемого мира. Всё здесь было на своих местах: спальник, свёрнутый особым методом, аптечка в красном непромокаемом мешке, папка с распечатанными треками и отметками о погоде на каждый день. Каждый предмет ложился на пол или кровать с тихим, обвиняющим звуком. Она чувствовала на себе взгляд Сергея.
Он сбросил свой рюкзак с глухим стуком. Он был больше, неповоротливее, и из него сразу выпала кружка. Сергей поднял её, поставил на стол, вздохнул. Его приготовления всегда напоминали хаотичное извержение. Он начал вытаскивать вещи беспорядочно: вот палатка, вот мешок с едой, а вот — Ольга сжала губы — непонятный тяжёлый предмет в чехле.
— Это что?
— Штатив, — сказал он, избегая её взгляда. — Для ночной съёмки. Звёзды здесь должны быть…
— Ты же знаешь, что у нас лимит по весу. Каждый грам - лишний на подъеме.
— Я его понесу. Это не твоя забота.
«Не твоя забота». Фраза повисла в воздухе, ставшая вдруг главной в их отношениях. Ты — не моя забота, я — не твоя. Они существуют параллельно, в одном пространстве, но не пересекаясь.
— Давай по списку, — голос Ольги стал жёстче, профессиональнее. Это был их спасительный ритуал. Можно было говорить не о чувствах, а о сухом горючем. — Спички, огниво?
— Есть.
— Сухое горючее?
Он порылся в своей куче. — Кажется, я…
— У меня, — она отрезала, доставая запасную упаковку. — Как всегда.
Он промолчал, приняв удар. Раньше он бы отшутился, назвал её «мой полководец». Теперь просто кивнул.
Они продолжали сортировать снаряжение, и эта совместная работа, некогда бывшая весёлым приключением, теперь напоминала разбор полётов после катастрофы. Её вопросы — чёткие и быстрые. Его ответы — односложны. Она аккуратно складывала его вещи рядом с его кроватью, будто очерчивая границу. Вот его спальник. Вот его посуда. Вот его часть аптечки.
— Налобный фонарь, — сказала она.
— Взял.
— Батарейки?
Он достал их из кармана. — Сменные.
Маленькая победа. Она почти улыбнулась, но поймала себя. Нельзя расслабляться. Нельзя показывать, что его маленькая победа что-то для неё значит.
Когда рюкзаки, наконец, стояли у двери, готовые к бою, в комнате повисла неловкая тишина. Она была громче, чем гул реки. Ольга подошла к окну. Горы теперь были тёмными монолитами, поглощавшими свет. Страшно идти туда. Но ещё страшнее оставаться здесь, в этой тишине.
— Завтра рано вставать, — произнесла она в стекло.
— Я не сплю, — отозвался Сергей. Он сидел на своей кровати, вертя в руках тот самый штатив. — Оль…
— Не надо, — быстро оборвала она. — Не сейчас. Не здесь.
— А где? На перевале? На спуске? Когда, Оль?
— Когда дойдём, — прошептала она. — Сначала нужно дойти.
В её словах был скрытый смысл, который они оба понимали. Сначала нужно дойти. Преодолеть километры, подъёмы, усталость. Пройти маршрут. А там, в конце тропы, может быть, откроются и нужные слова. Или не откроются. И тогда дороги просто разойдутся — в прямом и переносном смысле.
Сергей тяжело вздохнул и отложил штатив.
— Ладно. Как скажешь.
Она обернулась. В тусклом свете лампочки его лицо казалось усталым и немного потерянным. И вдруг, сквозь слой обид и непонимания, к ней прорвалось что-то острое и знакомое. Нежность? Жалость? Она тут же прогнала это чувство. Слабость сейчас была непозволительной роскошью.
— Спокойной ночи, Сергей.
— Спокойной ночи, Ольга.
Она погасила свет. Они легли на узкие кровати, разделённые метром темноты, который казался пропастью. За стеной гудела река, торопливая и холодная. Завтра им предстояло идти вверх, в горы, неся на плечах не только свои идеально упакованные рюкзаки, но и этот нераспакованный, тяжёлый груз молчания, который с каждым часом становился всё невыносимее. Они приехали, чтобы спасти что-то. Но первым испытанием стали не горные тропы, а эта комната, где они не могли найти друг к другу дорогу в полметра
Воздух в ущелье был иным. Не просто холодным, а густым, напоенным влагой тающих снегов и терпким ароматом хвои, пропитавшим скалы. Он обволакивал, входил в лёгкие не газом, а жидкостью, и с каждым вдохом тело будто становилось тяжелее, наполняясь , частью этого немого величия.
Евгений шёл впереди группы без видимых усилий, его походка — упругая, бесшумная — была походкой существа, здесь рождённого. Невысокий, коренастый, он напоминал один из местных валунов, обкатанных ветром и временем: непоколебимый, знающий свою твердь. Его взгляд, цвета речной наносной глины, скользил не по людям, а по тропе, по кромке неба, по силуэтам вершин. Он читал эту книгу гор, как другие читают газету, улавливая малейшие изменения в её «погодных» страницах.
— Следите за ногами, — его голос, негромкий, но чёткий, резал тишину, не нарушая её. — Камень мокрый, лишайник скользкий. Здесь, как в хорошей беседе, не скорость нужна, а внимание. Как в хорошей беседе.
За ним, будто его тихая, задумчивая тень, двигалась Татьяна. Красивая, уверенная в себе, с копной тёмных волос, убранных в простую косу. Она не смотрела постоянно под ноги. Её глаза — тёплые, голубые, с лучиками морщинок у уголков — мягко скользили по лицам идущих сзади. Она видела не тропу, а людей на ней. Видела, как Степан, не отрываясь, смотрит на Наталью, помогая ей переступить через очередной валун, как его пальцы, обхватывая её локоть, не разжимаются дольше необходимого. Молодожёны. Их аура была розовато-золотой, немного наивной, замкнутой на них двоих. Они приехали не за Адыгеей, а за своим отражением в её зеркальных озёрах и тишине.
А позади, с лёгким сопением и металлическим лязгом карабинов о рюкзак, шли Александр и Катя. Александр был облачён не в походную, а в «тактическую» одежду паттерна «мультикам». Его рюкзак ломился от снаряжения, часть которого здесь была смешна, как зонт в пустыне. Он постоянно поглядывал на Евгения оценивающе, будто сравнивал навыки. Его самоуверенность была броней, надетой на городскую неуверенность перед этой дикой, нецифровой громадой.
— Женя, а что за порода? Гранит? — бросил он, постукивая ботинком по скале.
— Мраморизованный известняк, — не оборачиваясь, ответил Евгений. — Этим горам больше ста пятидесяти миллионов лет. Они помнят океан.
Катя, его жена, шла, чуть ссутулившись, будто неся невидимую тяжесть. В её глазах читалась не усталость, а настороженность. Она не любовалась видами, а сканировала склоны на предмет опасности: неустойчивый камень, возможный обрыв, низко растущую колючку. Её мир был миром потенциальных угроз, и величественная красота не отменяла ни одной из них.
— Красота-то какая… неземная, — тихо, больше для себя, прошептала Наталья, глядя на водопад, серебряной нитью срывающийся с высоты в молочно-зелёную чашу озера.
— Она очень даже земная, — поправила её так же тихо Татьяна, поравнявшись. — И поэтому суровая. Она не любит суеты. И не прощает пренебрежения. Но тем, кто умеет слушать, дарит покой. Настоящий.
Именно в этот момент, когда группа растянулась, остановившись у смотровой площадки, Александр решил проявить инициативу. Заметив узкую, едва намеченную тропинку, уводящую в боковое, более крутое ущелье, он твёрдо заявил:
— А вот тут, я смотрю, можно короче пройти на тот склон. Да и вид сверху должен быть круче. По карте там…
— Там карниз, — голос Евгения прозвучал спокойно, но с той интонацией, которой режут верёвку. — Обрывистый. И глинистый после дождей. Он только кажется тропой. Это лёгкий путь к длинному падению.
В воздухе повисло напряжение. Самоуверенность Александра столкнулась со спокойным, неоспоримым знанием. Он покраснел, губы сложились в тонкую нитку.
— Я по таким проходил. Снаряжение есть.
— Снаряжение не поможет глине стать скалой, — Евгений повернулся к нему, и в его взгляде не было вызова, лишь констатация факта, как о погоде. — Здесь правила пишут не люди, Александр. Их пишет рельеф. Мы — гости. И ведём себя соответственно.
Катя потянула мужа за куртку, глаза её умоляли: «Не надо». Молодожёны невольно притихли, почувствовав подспудный разлад.
И тут в разговор мягко, но чётко вступила Татьяна, будто расставляя невидимые подушки безопасности.
— Знаете, есть древнее местное поверье, — сказала она, глядя куда-то вдаль, на седые вершины. — Что эти горы — не просто камни. Это застывшие великаны, стражи. Они спят. Им снятся сны о древних морях и бурях. Им можно доверить свою усталость, свою тихую радость. Но нельзя будить громко. Нельзя показывать, что ты тут хозяин. Они этого не любят.
Она помолчала, дав словам просочиться в сознание.
— Давайте просто пойдём дальше. Там, за поворотом, поляна, где можно передохнуть. И вид оттуда… он не сверху, он — из сердца ущелья. Вы почувствуете разницу.
Евгений кивнул ей почти незаметно — спасибо. Он был скалой, о которую разбивались амбиции. Она — водой, которая эти амбиции обтекала, перенаправляла, не давая создать опасное напряжение.
Группа тронулась дальше по основной тропе. Степан обнял Наталью за плечи. Катя выдохнула. Александр шёл, упрямо глядя под ноги, но уже не предлагал новых маршрутов.
А горы молчаливо наблюдали за ними. Величественные и суровые. Готовые принять в свои объятия и тихую романтику, и городскую спесь, чтобы медленно, день за днём, перемолоть и то, и другое в нечто иное — в понимание, в смирение, в ту самую земную мудрость, что нашептывал ветер в ущельях. Путешествие только началось, и каждый нёс в своём рюкзаке не только сменные носки, но и свой невидимый груз. Им всем предстояло узнать, что оставят они здесь, среди этих каменных стражей, и что унесут с собой обратно, в шумный мир, лежащий далеко за перевалами.
Легкая усталость от перехода уже начала притупляться, уступая место приятному чувству покоренного расстояния. Солнце, пробиваясь сквозь пихтовые лапы, рисовало на земле причудливые теплые пятна. Евгений шел последним, по привычке, выработанной за годы походов, немного отстраненно наблюдая за группой. Александр с Катей шли впереди, споря о чем-то с улыбками, Степан что-то увлеченно рассказывал Татьяне, жестикулируя.
Именно поэтому Евгений первым и заметил.
Сначала — окурок, примкнутый в мох у корня старой березы. Не простой «Примы» или «Винстона», которыми обычно баловались туристы, а темный, без фильтра, с едва уловимым запах крепкого, почти горького табака. Такие в местных магазинах не продавались. Он наклонился, не притрагиваясь. Синтетическая желтая нитка — редкая для этих мест — торчала из мятой бумаги. Евгений выпрямился, огляделся. Тишина стояла плотная, почти звенящая, нарушаемая лишь шагами группы и щебетом птиц. Но что-то в этой тишине было новое, натянутое.
Через полчаса он увидел сломанную ветку. Не просто упавшую под тяжестью снега прошлой зимы, а с характерным резким изломом, будто ее отогнули в спешке, прокладывая путь в сторону от тропы. Слом был свежим, на изломе сочилась влага. Евгений замедлил шаг, сердце забилось чуть чаще, ритмично отдаваясь в висках. Он вспомнил слова старого лесника, с которым рыбачил пару лет назад: «Зверь ломает ветку, потому что ему все равно. Человек ломает — чтобы запомнить или чтобы пройти. А вот если ветку сломали резко, да внутрь чащи — это не к добру. Торопятся, либо прячутся».
— Ребята, притормозите немного, — позвал он, но голос прозвучал спокойно, даже лениво. — Нога затекла.
Остановились. Александр достал воду, Катя села на валун. Татьяна стояла чуть в стороне, лицо ее было обращено в глубь леса, туда, куда вел тот самый слом. Она, казалось, не слушала шутку Степана. Ее поза была неестественно застывшей, будто она прислушивалась не к звукам, а к самой тишине.
И тогда раздался крик.
Резкий, пронзительный, оборванный на самой высокой ноте. Не птичий, хотя и похожий на крик хищной птицы — ястреба или канюка. Но в нем была странная, неправильная модуляция, будто кто-то пытался скопировать этот звук и на долю секунды сбился.
— Ух, какой пернатый! — свистнул Александр, запрокидывая голову. — Голосище!
— Филин, наверное, — предположила Катя, достав телефон. — Хочу записать, вдруг еще прокричит.
Степан закивал:
— Да, похоже на филина. Редко их днем услышишь, конечно, но бывает.
Только Евгений и Татьяна не стали искать взглядом птицу. Их глаза встретились на мгновение. В его взгляде она прочла ту же настороженную мысль: филины так не кричат. И крик этот шел не с высоты деревьев, а будто из чащи, оттуда, куда вел след сломанной ветки.
Татьяна резко обернулась к остальным, и ее обычная, мягкая улыбка показалась вдруг натянутой, как тонкая струна.
— Пошли уже, а то до озера к вечеру не дойдем, — сказала она, и в ее голосе прозвучала несвойственная ей повелительная нота.
Группа тронулась дальше. Но напряжение не ушло. Оно висело между Евгением и Татьяной незримой пеленой. Он видел, как она теперь часто оглядывается, как ее плечи напряжены, а пальцы время от времени непроизвольно сжимаются в кулаки. Она, в свою очередь, замечала, как он больше не смотрит под ноги, а постоянно сканирует лес по сторонам, как замедляет шаг на каждом повороте тропы.
Они не произнесли ни слова. Не было необходимости. Первые тревожные звоночки, тихие и почти неуловимые, прозвучали. И пока остальные смеялись и планировали, как будут ставить палатки, двое уже знали — в этом лесу они не одни. А те, кто скрывался в его зеленой чаще, не были похожи на простых туристов. И их молчаливое согласие об этой тревоге было страшнее любого открытого разговора. Лес вокруг внезапно перестал быть дружелюбным; каждое дерево могло стать укрытием, каждый шорох — угрозой. И тишина, наступившая после того крика, была теперь не мирной, а выжидающей.
Дождь уже не шел, он висел в воздухе ледяной, колючей пылью, проникающей под кожу, насквозь пропитавший ветхий ватник Светланы. Ее кличали Кувалдой не за рост — он был средним, — а за умение одним точным ударом решить проблему. Сейчас проблемой было само ее существование. Каждый хруст ветки под ногой отдавался в висках паническим гулом сирены. Колония осталась в тридцати километрах позади, но ее запах — затхлый, с примесью дешевого мыла и страха — казалось, въелся в легкие навсегда.
Рядом, спотыкаясь о корни, шла Марина, “Малина”. Когда-то это прозвище звучало, как комплимент — сочная, сладкая, манящая. Теперь же она напоминала подмороженную, сморщенную ягоду. Ее аферы были изящны: поддельные документы, игра на доверии, виртуозное вранье. Здесь, в этом промозглом лесу, эти навыки были бесполезны. Здесь нужны были сила, выносливость и умение убивать за еду. Его у них не было.
— Свет… Дальше не могу, — хрипло выдохнула Марина, прислоняясь к сырой коре сосны. Ее лицо, еще недавно умевшее складываться в очаровательную улыбку, было серым от усталости и грязи. — Сердце колотится… как сумасшедшее.
Кувалда молчала. Говорить было энергозатратно. Она сжала кулаки, почувствовав, как ослабели когда-то стальные мускулы плеч. Они бежали не к свободе. Они бежали от жестокости администрации и их «воспитательных методов» в холодном карцере. Их свобода была страшнее тюрьмы: голодная, безжалостная, с нулевыми шансами.
Их спас запах — сладковатый, дразнящий, невероятный запах дыма. Не махорочного, а настоящего, печного. Они поползли на него, как звери, забыв об осторожности.
Избушка была неказистой, но целой. А вокруг — ни собаки, ни забора. Ошибка. Роковая ошибка для того, кто в ней жил.
Они увидели его, когда он вышел за дровами. Мужчина лет пятидесяти, в помятом ватнике, по плечам которого физически ощущалась привычная ноша одиночества. Петр.
Лицо его не было злым — усталым, потухшим. Он нес не топор, а мелкую колку, и ружье за спиной висело как аксессуар, а не как продолжение руки.
Кувалда, прижавшаяся к стене сарая, с первого взгляда оценила его: слабохарактерный. Одинокий волк, давно забывший, как кусаться.
— Сейчас, — прошептала она Малине. — Только войдет.
Но Малина уже не слышала. Голод и холод сделали свое дело — она пошатнулась и грохнулась на мокрую землю, непроизвольно вскрикнув.
Петр обернулся. Испуг мелькнул в его глазах, сменившись растерянностью. Он увидел не опасных беглянок, а двух полумертвых, дрожащих от холода женщин. Одну — грязную, с плоским, ничего не выражающим лицом. Другую — хрупкую, без сознания.
— Кто… вы? — глухо спросил он, не решаясь подойти ближе.
Кувалда поднялась. Ее движения были медленными, лишенными былой мощи, но в них была инерция угрозы.
— Замерзаем, — прохрипела она. — Пустишь погреться. Не тронем.
Он колебался. Долгие годы жизнь учила его бояться мира за околицей. Но, в его одиноком существовании не было места даже для такого риска. Жалость — ржавый, но все еще работающий механизм в его душе — щелкнула.
— Ладно, — буркнул он. — Заноси ее.
Он помог внести Малину в избу, уложил на лавку. Сунул Кувалде кусок хлеба. Она ела, не откусывая, почти не жуя, глазами отмечая каждую деталь: ружье в углу, нож на столе, запас ключей на гвозде.
Малина пришла в себя, и ее глаза, еще мутные, мгновенно стали оценивающими. Она увидела то же: уязвимость. Одиночество. Страх перед конфликтом.
Петр суетился, ставил чайник. Он пытался что-то спрашивать, но слова повисали в воздухе. Кувалда молчала. Малина первая нарушила тишину. Слабым, дрожащим голосом, в котором вдруг ожили остатки прежнего, бархатистого тембра, она сказала:
— Спасибо вам, … Мы бы погибли. Мы… за грибами ходили и заблудились.
Ложь полилась легко, как сама собой. История двух несчастных сестер, уехавших на заработки. Но с заработками не получилось, вот и пришлось скитаться. Петр слушал, кивал, но в его глазах читалось сомнение. Слишком грязные, слишком напуганные. Слишком… чужие.
И тут Кувалда заметила, как его взгляд скользнул к радио на полке. К тому, что могло принести вести о побеге. Их время истекло.
Она встретилась взглядом с Малиной. Между ними проскочила та самая, тюремная, понимающая искра. Слов не нужно.
Когда Петр наклонился, чтобы подбросить поленья в печь, Кувалда встала. Не рывком, а тяжело, будто поднимая непосильный груз. Она прошла мимо него, будто к столу за кружкой, и оказалась между ним и ружьем.
— Чай-то закипает, — сказала она глухо.
Петр выпрямился и замер. Он увидел, как изменилась ее поза. Как из сломленной женщины она вдруг превратилась в барьер. А Малина, все еще бледная, приподнялась на локте, и ее глаза уже не просили — вычисляли.
— Вы… кто на самом деле? — тихо спросил Петр, и голос его дрогнул.
— Те, кому терять нечего, — ответила Кувалда. Ее рука лежала на столе, в пяти сантиметрах от ножа. — И те, кто не хочет тебя трогать. Если ты не полезешь к радиоприемнику. Если на три дня дашь кров, еду и не высунешься.
Петр оглядел свою избу — царство одинокого запустения. Потом посмотрел на этих двух женщин — загнанных, опасных, отчаянных. Страх боролся в нем с чем-то еще. С тем самым всепоглощающим одиночеством, которое хуже любого страха.
— Ружье… — начал он.
— Припасы и тишина, — парировала Малина, и в ее голосе впервые прозвучала твердость. — Нас ищут. Найдут — про тебя не скажем, что ты нас укрывал. Скажем, что взяли в заложники. Ты — жертва.
Это была новая афера. Афера на выживание. И ставка в ней — его покой и их шкуры.
Петр медленно, как бы обреченно, опустился на табурет. Он смотрел в пол, на свои потрескавшиеся сапоги.
— Три дня, — прошептал он. — И чтоб никто…
— Никто, — отрезала Кувалда, убирая руку от ножа, но не расслабляясь.
Сговор был заключен. Не на доверии, а на взаимной выгоде и страхе. В душной, пропахшей дымом и немытой одеждой избе теперь было трое пленников: две — бежавшие от беспредела, один — от собственной пустой жизни. И ружье в углу, на которое с одинаковым желанием смотрели все трое, означало уже не защиту, а хрупкий, временный баланс их общего, жалкого ада.
Тишина леса была обманчивой, густой и вязкой, как сироп. Она не столько успокаивала, сколько подавляла, поглощая их голоса и воспоминания. Сергей и Ольга шли по узкой тропе, цепляясь за прошлое, как за спасательный круг. Они вспоминали смех, тепло ладоней, восхищение друг другом — хрупкие скрепы, которые уже начинали трещать по швам. Их разговор был шепотом, прерывистым, больше для галочки.
Именно в этой гнетущей тишине избушка возникла внезапно, будто материализовалась из серого сумрака. Не постройка — видение. Покосившиеся бревна, темное, как слепой глаз, окно, низко нависшая кровля.
— Смотри, — выдохнула Ольга, и в ее голосе прозвучала неестественная, почти детская надежда. — Избушка. Может, там... Можно согреться? Переодеться? Я замерзла.
Ее слова повисли в воздухе. Она говорила о чае, об отдыхе, о ночлеге, но на самом деле просила о передышке. О точке опоры в этом тонущем мире.
Сергей молча кивнул, его пальцы уже нащупали кнопку записи. Привычный щелчок, зеленый огонек в видоискателе. Он был блогером. Его жизнь имела ценность только тогда, когда умещалась в кадр, когда ее можно было монтировать, накладывать музыку, собирать лайки. Реальность была сырым материалом. Лес, страх в глазах Ольги, эта зловещая изба — все это было просто контентом. «Заброшенная глушь. А что внутри? — мысленно прокручивал он будущие комментарии. — Сейчас узнаем».
Они еще не успели подойти, как дверь скрипнула, и на пороге возник мужчина. Петр. Он не выглядел хозяином — скорее, загнанным зверем. Его лицо было серым от усталости, но в глазах, мечущихся между ними и темнотой сзади, бушевала паника. Вся его поза кричала об одном: «Бегите».
— Добрый день, — голос Сергея прозвучал громко и фальшиво, как в плохом спектакле. Он навел камеру на незнакомца. — Мы путешественники. Заблудились. Это Ольга. Вы тут живете?
— Да, — ответил Петр, и это было не слово, а хриплый выдох. Взгляд его уперся в камеру, и в нем мелькнуло что-то животное — ненависть или отчаяние. — Я уже ухожу. И вам... вам тоже пора. Сейчас.
Но Сергей не слышал. Он уже снимал: шаткое крыльцо, заросшую тропинку, лицо испуганной Ольги. «Ребята, тут какой-то отшельник, настроение не очень... — бормотал он в микрофон. — Посмотрим, что за халупа».
Не спрашивая, он двинулся вдоль стены, к грязному, заляпанному окну. Света было мало, и он поднес к стеклу не сам глаз, а объектив камеры, доверяя только электронному зрению. На экране, в зеленоватом свете матрицы, проплывали размытые силуэты, груды тряпья...
И тогда он увидел. Неясное движение в глубине. Человеческую фигуру.
— Там... там кто-то есть, — произнес он удивленно, не отрываясь от видоискателя. Его мозг, заточенный под кликбейт, уже лихорадочно сочинял заголовок: «НАШЛИ МАНЬЯКА В ЗАБРОШКЕ!»
Все произошло в следующее мгновение. Не было времени на осмысление.
Дверь с грохотом распахнулась, и из темноты вынеслась туша человеческая, монолит из мышц и ярости по прозвищу Кувалда. Ее движение было неестественно стремительным для такой массы. Она не напала — она вобрала в себя Ольгу, как медведица лосося. Короткий, приглушенный звук удара. Не крик — хрип. Ольга сложилась пополам и бесшумно осела на сырую землю, глаза остекленевшие, полные непонимания.
— Оля!
Сергей рванулся к ней, мир сузился до ее лежащего тела. И в этот миг боль пришла не спереди, а сзади. Глухой, тяжелый удар между лопаток. Не острый — тупой, сокрушающий. Воздух с хрипом вырвался из легких. Он не упал сразу, а лишь осел на колени, пытаясь повернуться. За спиной, держа в руках топорище с окровавленным лезвием, стоял Петр. Тот самый, испуганный. В его глазах теперь не было паники. Только пустота и решимость.
Ольга, придя в себя на грани шока, увидела это. Увидела, как Кувалда на мгновение отвлеклась на Сергея и Петра. Инстинкт, древний и беспощадный, заглушил боль. Она вскочила, оттолкнувшись от земли окровавленными руками, и бросилась бежать. Не по тропе — куда глаза глядят, в чащобу, под крики воронья.
Из избы, словно тень, выскользнула вторая фигура — худая, быстрая. Малина. Беззвучно, как гончая, она ринулась в погоню, растворяясь в зеленом мраке леса.
— Стой! — проревела Кувалда, но не в след убегающим, а своей сообщнице. Ее голос был низким, властным. — Не трать силы, догоним. Она далеко не уйдет.
Она повернулась к Петру, переступила через тело Сергея, которое тихо хрипело на земле. Сверху капала кровь, образуя темные звезды на прошлогодней листве.
— Теперь... — Кувалда тяжело дышала, ее взгляд скользнул по избе, по лесу, по жертвам. — Теперь надо думать. Придумывать план.
Тишина, на миг разорванная криками и топотом, снова сомкнулась над поляной.
Петр стоял, сжимая в руках топорище. Липкая влага просачивалась через рукава его куртки, но он не чувствовал холода — только тяжесть, свинцовую и всепроникающую. Он не смотрел на Кувалду, разрабатывающую план. Он смотрел на свою руку, которая только что опустилась.
Удар топором был не актом храбрости или злобы. Это был акт отчаяния. Последний, отчаянный шаг в пропасть. Теперь он был свой. Теперь ему некуда было возвращаться даже в мыслях. Он убил не просто человека — он добил в себе последние остатки того Петра, который мог бы возмутиться, испугаться за других, позвать на помощь. Теперь он был сообщником. И эта новая, страшная роль, как ни парадоксально, давала ему право дышать здесь еще один день. Он помогал им не из лояльности, а потому что иного способа существовать у него больше не осталось. Его душа, чтобы выжить, съежилась и спряталась в самом темном углу, оставив тело выполнять команды.
Он отвернулся от тела Сергея и посмотрел на Кувалду. В ее взгляде не было благодарности — лишь удовлетворение от того, что инструмент сработал как надо. Петр кивнул. Внутри было пусто и очень тихо. Тише, чем в лесу.
Тишина в ущелье была не природной, не той, что наполнена шепотом листьев и жужжанием насекомых. Это была тишина пустоты, выжженного места. Воздух, холодный и тяжелый, словно впитывал в себя все звуки, оставляя только навязчивый гул в ушах.
Именно в этой гробовой тишине они и нашли ее.
Ольга лежала в куче листвы у темного подножия скалы, неестественно скрючившись, как брошенная тряпичная кукла. Сначала в свете фонарей Евгения мелькнуло что-то бледное, не то камень, не то ствол березы. Но камень не дышал прерывисто, с хрипом.
— Боже правый... — выдохнула Татьяна, первой сообразив, что это тело. Не труп. Тело.
Они подбежали. Картина, открывшаяся им, выжгла в памяти каждого свой негатив. Ольга была жива, но жизнь эта висела на тончайшей нити. Ее топ был порван . И кожа... кожа на руках, плечах, на щеках была содрана. Не порезы, не царапины от падения — именно содрана, местами до мяса, большими, страшными лоскутами. Кровь запеклась бурыми разводами, смешавшись с грязью и мелкими камушками, прилипшими к ранам. Лицо было неузнаваемым, опухшим, но губы беззвучно шевелились.
— Не трогай! Аккуратнее! — голос Евгения прозвучал резко, отсекая панику. Он скинул рюкзак, доставая аптечку. Руки его действовали автоматически, но в глазах стоял холодный, расчетливый ужас. Что за тварь могла так...?
Татьяна, отбросив шок, опустилась на колени. Ее пальцы, дрожащие, но уже повинуясь медицинской памяти, нащупали пульс на шее — слабый, частый, как птичье сердцебиение.
— Шок, сильнейший болевой, переохлаждение, — бормотала она, доставая шприц-тюбик с обезболивающим. — Помогите, поверните ее бережно. Ей нужно тепло.
Александр и Степан растерянно сняли свои куртки, застелив ими землю рядом. Перекладывали Ольгу, будто хрустальную вазу. Она стонала сквозь стиснутые зубы, белки глаз мелькали под полуприкрытыми веками.
Работа заняла больше часа. Наталья под присмотром Татьяны, промывала раны, накладывала стерильные повязки из всего запаса бинтов. Ольгу укутали в спальник и в серебряное теплое одеяло из аварийного запаса. Давали по каплям воду.
И ждали.
Костер развели в стороне, в небольшой естественной нише скалы, чтобы свет и дым не били в лицо Ольге и не выдали их положение кому-то еще. Евгений то и дело поднимался на небольшой выступ, вглядывался в сгущающиеся сумерки ущелья. В спину ему дул ледяной, пронизывающий ветер.
Очнулась Ольга ближе к ночи. Сначала это был просто тихий стон, потом — прерывистое, рыдающее дыхание. Татьяна сразу была рядом, прижимая флягу с теплым сладким чаем к ее потрескавшимся губам.
— Тихо,... тихо. Мы здесь. Мы с тобой.
Глаза Ольги, полные бездонной боли и ужаса, метались по лицам склонившихся над ней людей, словно не узнавая. Потом в них проступило слабое понимание. Слезы, соленые, тут же зашипели на свежих ссадинах на щеках.
— С... Сергей... — вырвалось у нее хриплым, разбитым шепотом.
— Где он? Кто он? Что случилось? — мягко, но настойчиво спросил Евгений, присев рядом.
Ольга затрясла головой, будто отгоняя видение. Дыхание сбилось.
— Женщины... — прошептала она так тихо, что все наклонились ближе. — В робах... серые... как мешки...
Она замолчала, глотая воздух.
— Кто? Кто в робах? — подтолкнула Татьяна.
— Убили... — глаза Ольги снова закатились, она боролась с накатывающей темнотой. — Сергея... убили... сразу... топором... — ее тело содрогнулось в немом крике. — Он... он даже не понял...
В лагере воцарилась ледяная тишина. Только потрескивали дрова в костре. Степан отвернулся, его вырвало в темноту за камни.
— Кто? — голос Евгения был твердым, как сталь. — Кто убил?
Она сжала руку Татьяны с такой силой, что кости хрустнули.
— Охотник... с ними... — выдохнула она. — Лицо... в шрамах... И... они... они потом... ко мне... держали...
Последние слова почти слились в невнятный бред. Силы оставили ее, сознание снова поплыло в сторону боли и кошмара.
Евгений молча встал. Достал телефон. На экране — полный ноль, крестик на месте сигнала. Он взобрался на самую высокую точку у их укрытия, поднял мобильник над головой, медленно поворачиваясь. Ничего. Мертвая зона. Горы, как стены, надежно отсекали их от мира.
Спустившись к костру, он посмотрел на своих. На бледное, испуганное лицо Степана. На сосредоточенное, но тронутое ужасом — Татьяны. На Александра, который бессмысленно перебирал тросики от рюкзака, избегая смотреть на завернутый комок, которым была Ольга.
— Карту, — сказал Евгений тихо.
Он развернул пластиковую ламинированную схему на камне, подсветил фонариком. Их маршрут — тонкая красная ниточка, уходящая вглубь хребта. Ближайший населенный пункт — их исходная база — пять дней назад. Впереди по плану — перевал и спуск к реке. Но там ничего, кроме тайги.
Его палец лег на маленький черный квадратик в стороне, почти у края карты.
— Кордон лесников. Здесь. Три дня пути. Если пойдем налегке, галсами, можем уложиться в два с половиной.
— Сойти с маршрута? — Александр поднял на него глаза. — Это же...
— Это необходимость, — перебил Евгений. — У нее сепсис начнется через день-два в таких условиях. Ей нужен врач, антибиотики, перевязки. Нам всем нужно оружие и связь. Там, на кордоне, должно быть и то, и другое.
Решение было тяжелым, как гиря. Сход с маршрута в незнакомой местности, с раненой, с непонятной угрозой где-то рядом. Но другого выбора не было.
— Собираемся. Дремлем по очереди. На рассвете выходим, — его голос не допускал возражений.
Темнота за пределами круга света от костра была абсолютной, густой, как смола. И в этой смоле, на скальном карнизе в пятидесяти метрах выше лагеря, шевелились две тени.
Кувалда, массивная и неподвижная, как глыба, всматриваласься в тусклые огоньки внизу. Её дыхание было почти неслышным. Рядом, прижавшись к холодному камню, егозила тощая фигура Малины. Её глаза, черные и блестящие, как у горностая, жадно ловили каждое движение в лагере.
— Очнулась, — прошипела Малина. — Трепется.
Облизнув тонкие губы, глядя на укутанную фигуру Ольги.
Кувалда сжала челюсти. Открытая схватка с этими странниками сулила лишь кровь и шанс промахнуться. Проиграть они не могли — за спиной уже шептался голодный ропот. Им была нужна еда. И дорога к людям, любой ценой.
На Петра надежды не было. Его ухмылка, его скользящий взгляд — все кричало о ловушке. Он мог завести в чащобу и оставить там навсегда. Оставался один, гнилой вариант: идти по пятам, как тень, как падальщик, и ждать, пока чужие сапоги протопчут для них тропу из этого ада.
— Ночуем у Петра, — выдохнула она, и слова повисли в холодном воздухе. — А на рассвете — за ними. И еду у них нужно стянуть. Тихо. Пока они спят. Иначе Петр сгноит нас в этой конуре голодом.
Две тени бесшумно отлили от скалы, растворившись в ночи, оставив после себя лишь холодное ощущение чуждого, неумолимого присутствия. Лагерь внизу, с его дрожащим огнем и тяжелым решением, и не подозревал, что уже стал мишенью в чужой, страшной игре.
Тишина, которая шла за ними по пятам, была гуще и тяжелее лесного мрака. Она впитывала в себя звук шагов, прерывистое дыхание, скрип веток. И самым гнетущим её проявлением была молчаливая ноша на плечах у Евгения.
Ольга почти не говорила. Она лишь смотрела куда-то поверх деревьев прозрачными, невидящими глазами, изредка вздрагивая всем телом. Нести её приходилось по очереди, но основная тяжесть легла на Евгения и Степана. Александр шёл впереди, прокладывая путь.
«Ещё час, — думал Евгений, чувствуя, как немеют руки под коленками девушки. — Ещё час, и мы остановимся». Но час тянулся бесконечно. Лес, прежде казавшийся просто опасным, теперь дышал скрытой угрозой. Каждое дерево могло скрывать врага, каждый ручей мог быть ловушкой.
На привале, у горящего костра, напряжение лопнуло.
— Мы идём слишком медленно, — прозвучало из темноты. Александр не смотрел ни на кого. — Такими темпами мы неделю будем идти.
— У нас нет выбора, — глухо ответил Евгений. — Мы её не бросим.
— Кто сказал, что её надо бросать? — Александр резко поднял голову. — Я говорил, что надо было идти быстрее.
В воздухе повисла та тишина, что предшествует удару. Даже Ольга, сидевшая, укутанная в куртку, слегка повернула голову.
— Скоро должны быть пещеры— сквозь зубы произнёс Евгений. — Там рядом , на карте, отмечен домик лесника. В нем можно переночевать. Возможно там будет еда. Туристы часто оставляют часть провизии.
— Шанс заблудиться и умереть от голода! — Александр швырнул в огонь щепку, искры взметнулись к серому небу. — Ты взял на себя ответственность, так веди нас, а не тащи в могилу из-за какого-то гуманизма!
— Хватит! — Голос Степана прозвучал негромко, но твёрдо. Он, как всегда, сидел чуть в стороне, собирая разбросанные вещи. — Спор ни к чему не приведёт. Решение принято. Да, путь сложный, но Александр, ты сам выбрал Евгения проводником. Второе мнение было бы полезнее до марша, а не в его середине.
Александр фыркнул, но смолк. Степан продолжил, обращаясь уже к Евгению: — И ты перестань держать всё в себе. Мы устали. Нам нужен не приказ, а план. Хотя бы на завтра.
Евгений кивнул, чувствуя внезапную усталость, проникающую в кости. Степан был прав. Он пытался быть скалой, но, под давлением, трещины пошли даже в нём.
— Ладно. Завтра на рассвете — выдвигаемся. Цель — каменная гряда на карте. Там есть пещеры, можно будет передохнуть и осмотреться.
Ночь принесла не отдых, а новую тревогу. Евгений, чья очередь была дежурить под утро, сидел, прислонившись к холодному стволу сосны, и боролся с дрёмой. Лес жил своей жизнью: шелест, потрескивание, далёкий вой. Но был и другой звук. Не животный. Тихое, едва уловимое шуршание, будто кто-то осторожно, плавно переставлял ноги по влажному мху.
Он замер, вглядываясь в мрак. Ничего. Только тьма, движущаяся от ветра. Паранойя, — сказал он себе. — Усталость.
Евгений тихо улыбнулся. В его сознании, словно драгоценная кадр из старого фильма, ожило самое дорогое воспоминание — день, когда он встретил Татьяну.
В тот вечер он ехал в такси, и сердце трепетало в предвкушении. На нем был элегантный плащ, под которым угадывался стильный клетчатый пиджак, темно-синие брюки и сиреневая рубашка, а туфли сияли безупречным блеском. В руках он бережно сжимал один-единственный алый бутон — пунцовую розу, каплю страсти на фоне суетливого города.
Такси остановилось у «Вертикали» в Королёве. Воздух был прохладен и напоён ожиданием. И вот он увидел Её. Татьяна ждала его, и весь мир будто замер. Её голубые глаза светились, как два безмятежных небесных осколка, а улыбка, чистая и очаровательная, в один миг растопила всё его естество. В его сердце, тихом до этой секунды, вспыхнул яркий, неугасимый огонь. Это было начало всего.
На рассвете пропажу обнаружила Наталья, отвечавшая за провизию.
— Консервы, — прошептала она, бледнея. — Штук пять. И сухари. Они были в мешке у большого камня. Мешок цел, но развязан.
Молчание стало ледяным. Все понимали: зверь растащил бы всё, порвал ткань. Это сделали руки. Осторожные, умелые.
— Может, свои? — неуверенно предложил кто-то. — Кто-то проголодался ночью…
— Вздор, — оборвал Александр. Он осматривал землю вокруг камня. — Следов наших ботинок тут нет. Зато вот это… — Он ткнул пальцем в едва заметную вмятину в почве. Отпечаток был странным, продолговатым, без чёткого рисунка. Как от керзача.
Евгений почувствовал, как холодная волна прошла по спине. Он посмотрел на Ольгу. Та сидела, обхватив колени, и смотрела прямо на то место, где ночью были слышны шорохи. В её глазах не было страха. Было пугающее понимание.
— Никто ни в чём не признается? — с вызовом оглядел группу Александр.
— Не в этом дело, — тихо сказал Евгений. Он поднял голову, его глаза медленно обвели кольцо леса, сомкнувшееся вокруг них. — Это не внутренняя кража. Нас кто-то нашёл.
Он встретился взглядом со Степаном. Тот молча кивнул. В его обычной спокойной уверенности появилась трещина — тонкая, как паутинка, но заметная.
— Значит, они не хотят нападать открыто, — проговорил Степан. — Они истощают. Напугивают. Следят.
— Зачем? — спросила Наталья, и голос её дрогнул.
Евгений посмотрел на безмолвную Ольгу, потом на смятение в глазах товарищей. Он вспомнил её первую и последнюю внятную фразу, сказанную в бреду: «Они везде. Они всё слышат».
— Не знаю, — честно ответил он. — Но теперь мы идём не просто к точке на карте. Мы идём, и за нами следят. И они уже здесь.
Он поднял свой рюкзак, почувствовав его неестественную, зловещую лёгкость. И впервые за весь поход чётко осознал. Они — добыча. И самые страшные охотники в этом лесу не звери, а те, кто движется бесшумно, наступая на собственные следы.
Домик лесника, серый и покосившийся, возник перед ними внезапно, как мираж. Сквозь разорванную облачность пробивался слабый луч солнца, и он блеснул на мутном стекле единственного окна. На мгновение онемевшее от усталости и страха сердце Евгения екнуло: Укрытие. Отдых. Спасение.
— Осторожно, — хрипло предупредил он, опуская Ольгу на сырую землю у края поляны. — Степан, со мной. Остальные — здесь, в укрытии.
Дверь поддалась с тихим скрипом. Внутри пахло плесенью, пылью и… тёплым пеплом. На грубо сколоченном столе догорала свеча, а у тлеющей печурки сидели двое. Мужики в потрёпанной, но крепкой одежде, с небритыми, усталыми лицами. Они вздрогнули, и один из них инстинктивно потянулся к стоявшему рядом топору.
— Свои! — быстро сказал Степан, поднимая раскрытые ладони. — Сбились с пути. Идём к кордону егерей.
Мужики переглянулись. Тот, что постарше, с проседью в бороде, расслабился и даже тронул губы в подобие улыбки.
— Иван, — представился он хрипло. — А это Коля. Мы… грибники. Тоже застигнуты непогодой.
— Грибники, — без интонации повторил Евгений, окидывая взглядом избу. Пустые консервные банки в углу, спальные мешки у печки. И на полке, почти не прикрытая тряпкой, — катушка тонкого, прочного шнура, а рядом… Он присмотрелся. Армейский компас с люминесцентной стрелкой. И знакомый ему по университетской практике щуп для разведки грунта — складной стальной прут с заострённым наконечником и Т-образной рукоятью. Инструмент не грибника, а чернокопателя, искателя. Так же в углу накрытой куском брезента стоял карабин.
— Да, грибники, — повторил Коля, помоложе, нервно потирая ладонь о колено. — Белые пошли, опята… Вы откуда?
Пока Степан что-то объяснял, в домик, не выдержав ожидания, вошли остальные. Пространство наполнилось шорохами, вздохами, вопросом Татьяны, увидевшей печку: «Можно согреть воды?»
Евгений отвёл глаза от полки и встретился взглядом с Таней. Она уже смотрела на «грибников», молча взяв котелок, её брови были чуть сведены, а движения стали резкими, угловатыми. Она чуяла фальшь. Как и он.
Иван оказался словоохотливым. Он рассказывал о грибных местах, о том, как они заблудились, но его истории были путаны, географические названия проскальзывали не те, что были на картах этого района. Коля же больше молчал, лишь водя тёмными, быстрыми глазами по лицам, рюкзакам, оружию.
Ночь сгустилась над домиком, принеся с собой не облегчение, а новое, ещё более тяжкое бремя. Съели втрое меньше запланированного — берегли остатки. Чужие консервы из мешка Ивана и Коли есть не стали, сославшись на сытость. Подозрение висело в воздухе гуще дыма.
Все спали урывками, тяжело, кроме Евгения и Тани, деливших первое дежурство. Иван и Николай лежали возле печки, вдали от всех. Они не шевелились, но по напряжённости их спин Евгений читал не сон, но томительное, голодное бодрствование.
Смена прошла. Дежурить встал Степан. Евгений, сдав ему дежурство, рухнул на жёсткие доски рядом с Татьяной, закрыл глаза, и провалился не в сон, а в липкую, тревожную дрему. Татьяна, утопая в его объятиях, медленно погрузилась в сладкое царство Морфея. Её сон, лёгкий и прозрачный, тут же наполнился живыми картинами счастья.
Она снова видела, как они с Евгением мчатся по теплой песчаной дороге меж барханов под Витязево, навстречу синему простору моря. Как стояли, обнявшись, провожая закат, когда пылающее солнце медленно тонуло в лазурной глади, а в их руках сверкали бокалы с холодным шампанским. Как шептали, прижавшись друг к другу, о вечном — о любви, что казалась бескрайней, как это море, и о счастье, которое они держали в ладонях, таком хрупком и безграничном. И даже во сне на её губах дрожала улыбка, отражая тихую радость, что лилась из самого сердца воспоминаний.
Их вырвал из сна резкий звук — приглушенный удар, хрип и звон алюминиевой посуды. Он вскочил, не сразу понимая, где находится. В темноте, у полок с провизией, метались две фигуры. Перед ними, дико сверкая глазами, стояла Кувалда, в ее поднятой руке блеснуло лезвие охотничьего ножа.
— Голодные! — прошипела Кувалда, и ее голос был чужим, звериным. — Вы сдохните здесь! Отдай еду!
Малина, маленькая и юркая, уже срывала со стола оставшиеся пайки, суя их за пазуху.
— Стой! — рявкнул Евгений, делая шаг вперёт в сторону Петра, вытаскивая из ножен нож. В тот же миг Степан, спавший, вскинулся и рванулся к ружью, прислонённому к стене. В полумраке трудно было разобрать, кто есть кто.
Всё произошло за секунды. Петр увидев движение, в панике развернулся. Его взгляд, полный животного ужаса и страха, упал на Евгения. Он не целился, он просто нажал на курок не поднимая ствол карабина.
Евгений почувствовал не боль, а резкий, обжигающий толчок в бедро, чуть выше колена. Он споткнулся и рухнул. Тёплая влага немедленно пропитала ткань. Запах горелого пороха окутал пространство
— Сволочи! — закричал Степан, направляя ружьё.
Малина выхватила у ошеломлённого Степана карабин — тот не выстрелил, боясь попасть в своих в тесноте. Да и в его руках это было первое оружие.
В домике воцарилась оглушительная тишина, нарушаемая лишь тяжёлым дыханием и сдавленным стоном Евгения. Он сидел на полу, сжимая ладонью рану, сквозь пальцы сочилась тёмная, густая кровь.
Татьяна уже была рядом, разрывала свою рубаху на бинты. Её лицо было белым, как мел, но руки не дрожали.
Иван и Коля стояли у своей печки, не двигаясь. Их лица в полумраке были нечитаемы.
— Боль… в бедре… неглубоко, но… — сквозь зубы процедил Евгений, чувствувая, как холодный пот покрывает лоб. Он посмотрел на Степана, на Александра, на остальных, застывших в ужасе. Потом его взгляд упал на пустую полку, где лежали консервы, и на открытую дверь, в чёрную пасть леса.
Боль была острой и ясной. Но яснее было другое. Им угрожает опасность.
Они лишились движения. Он, ведущий, был обездвижен.
А лес вокруг был полон теней. И теперь среди этих теней были трое, знающих их слабость, вооружённых и доведённых до отчаяния голодом. И двое чужих, «грибников», чьи тихие, испытующие взгляды он чувствовал на своей спине.
Они были в ловушке.
Им угрожала опасность лишь от двоих. Беглых, измождённых, загнанных в угол женщин. А их было больше. Они были сильнее, лучше экипированы, теоретически — умнее. Они могли просто скрутить их, обезвредить, связать и ждать помощи. Но они не сделали этого. Они шли у них на поводу.
Ответ не был в одной причине. Он был в ядовитой смеси многих, которая превратила группу в идеальную жертву.
Тишина, наступившая с рассветом, была густой и липкой, как смола. Она не прервалась, а лишь сменила качество — из сонной стала натянутой, звенящей. Молчание и неизвестность повисло в ледяном воздухе избушки, и никто не хотел их нарушать.
Кувалда, лежащая у печки, сдвинула свои густые, почти мужские брови и уставилась на Петра, свернувшегося калачиком у самой двери. Он лежал неестественно неподвижно, лицом к стене, в тени, куда не доходил слабый свет, пробивавшийся через заиндевевшее окошко.
— Петруха, слышишь? — уже без прежней грубоватой бодрости, а с низкой, опасливой нотой в голосе повторила Кувалда. Её хриплый голос, привыкший командовать, сейчас звучал приглушенно.
Она вытянула ногу в тяжелом, стоптанном сапоге и ткнула Петра в бок, в ребра. Не толчок, а скорее пинок-проверка. Тело качнулось, подалось вперед с какой-то безжизненной податливостью и замерло в новой, еще более неудобной позе. Рука, вывернутая из-под туловища, упала на грязный пол ладонью вверх. Пальцы слегка подрагивали, но это был не живой трепет — их колотила мелкая дрожь окоченения.
В избушке словно выключили звук. Даже храп Степана, что иногда ночью буравил тишину, оборвался — он сам проснулся от этой новой, мертвой тишины, последовавшей за пинком. Все присутствующие — Евгений, обнявший спящую Татьяну; Ольга, сидевшая, укутавшись в платок; сам Степан и прижавшаяся к нему Наталья; Александр, зябко ежившийся рядом с Катей; Кувалда и притихшая, как мышь, Малина; Иван и Николай — все замерли, будто вмороженные в свои позы. Страх, дремавший в углах избушки, поднялся во весь рост, наполнил собой ледяной воздух, пополз под кожу.
Кувалда медленно, с трудом, будто каждое движение давалось невероятным усилием, встала на ноги. Костяшки её сильных, крупных пальцев, сжатых в кулаки, побелели. Она сделала пол шага к телу, шаг гулко отдался в звенящей тишине. Присела на корточки, скрипнув коленями. Потрогала запястье Петра, потом резко отдернула руку, будто обжегшись.
— Холодный, — прорычала она, не оборачиваясь. Голос её был хриплым, лишенным всяких интонаций. Констатация факта. Приговора.
Слово «холодный» упало, как камень в колодец, и пошла тихая, ядовитая рябь. Евгений прижал к себе Татьяну, которая, проснувшись, тихо ахнула. Ольга втянула голову в плечи, будто пытаясь исчезнуть. Степан и Наталья переглянулись — в их взгляде был один и тот же немой вопрос. Александр потянулся к ножу у пояса, а Катя схватила его за локоть, удерживая. Иван и Николай синхронно выпрямились, их лица стали напряженными масками. Малина, маленькая и незаметная, просто закрыла ладонью рот, глаза её стали огромными от ужаса.
— Кто? — выдавил из себя Евгений, оглядывая тесное помещение, битком набитое людьми. Один-единственный слог, полный такого ужаса, что он казался криком. — Кто из Вас?
Он оглядел всех, его взгляд, острый и болезненный, скользнул по Кувалде, задержался на молчаливых “грибниках”, на Степане, на Александре с ножом. Вопрос висел в воздухе, тяжелый и невыносимый. Кто из нас? Не «кто-то пришел», не «зверь лесной». Избушка была заперта изнутри, окно цело. Ветер выл снаружи, занося дождь, отрезая их от мира. Убийца был здесь. Он — или она — сидел с ними всю ночь, дышал одним воздухом, притворялся спящим. А потом встал, пока они дремали в тревожном полусне, и сделал свое дело. Бесшумно. Аккуратно. На шее Петра, куда теперь упал свет из окна, синела тонкая, глубокая полоса — след от удавки.
Первой нарушила оцепенение всё же Кувалда. Она поднялась, отгородив своим плотным телом остальных от вида мертвеца.
— Осмотреться, — глухо приказала она. — Все по своим углам. Трогать ничего нельзя. Вещи, карманы.
Но это уже была игра. Ритуал. Все и так понимали. Убийца не оставил оружия. Он использовал то, что было под рукой. Или принес с собой, спрятав до поры. Он был среди них, и теперь смотрел на них теми же глазами, что и они — полными притворного (или настоящего?) ужаса и недоверия. Только в одном взгляде, под этим слоем страха, таилось что-то еще. Холодное. Расчетливое. Удовлетворенное.
Кувалда медленно обвела взглядом комнату, останавливаясь на каждом лице: на испуганном лице Татьяны, на осторожном — Александра, на нечитаемых — Ивана и Николая, на растерянном — Степана.
— Значит, так, — сказала она тихо, и в её хриплом голосе зазвучала сталь, заглушающая панику. — Нас двенадцать человек. Один уже труп. Одинадцать — живые. И один из одинадцати — палач. Игра началась. Кончится она, только когда кончимся мы. Или, когда он себя выдаст.
Снаружи ветер ударил в стену, завыл в трубе потухшей печи. В избушке стало еще холоднее. Теперь это был не холод раннего утра. Это был холод могилы, в которой они оказались заживо. Все двенадцать. Одинадцать пар глаз метались, выискивая вину во взглядах соседа, мужа, случайного попутчика. Следующий взгляд, полный лжи, может принадлежать убийце. А следующий холодный труп — любому из них.
Яд подозрения. Труп Петра — стал точкой невозврата. Убийца был среди них. Это знание разъело последние крупицы доверия. Теперь каждый взгляд соседа, каждое движение в темноте могло быть угрозой. Александр подозревал «грибников», «грибники» — туристов, туристы — друг друга.
Кувалда и Малина, изначально чужие, стали лишь одной частью этого хаоса, а не его центром. Чтобы объединиться против них, нужно доверия внутри. Его не было. Каждый заперся в своей клетке страха.
Труп Петра остался в углу. Разбираться в причинах его стеклянного взгляда не было ни времени, ни сил — только животное, щемящее желание бежать. Пахнущая сыростью и страхом избушка давила стенами, но выбраться из неё значило шагнуть в слепую, враждебную хмарь леса.
А ведь всё теперь держалось на Евгении, который не мог идти сам. Еще была Ольга, которая тоже нуждалась в медицинской помощи. Её взгляд изподлобья, полный немого ужаса резал по нервам хуже любого крика. Даже Кувалда, их негласный лидер, была в ловушке. Дорога стерлась. Местность — чужая. В рюкзаках шелестели жалкие крохи еды, а силы таяли с каждым вдохом промозглого воздуха.
Тишину разорвал скрип половицы. Кувалда встала, её тень заплясала на бревенчатой стене.
— Вместе. Идём все вместе. Пока можем.
Это был не приказ лидера. Это была хитрость загнанного в угол зверя. Идти вместе — значит делить последние ресурсы. Идти вместе — значит повернуться спиной к тому, кто, возможно, уже смотрит в спину тебе.
Сила инициативы и жестокости. Кувалда и Малина были в своей стихии хаоса и насилия. Они не обсуждали, не колебались. Они действовали. Угроза, подкреплённая немедленной жестокостью (убийство Петра), парализовала волю остальных. Группа состояла из людей, чьи навыки были связаны с выживанием в городе, с переговорами, с планированием. Их реакция на прямой, животный террор была запоздалой и растерянной. Пока они собирались с мыслями, преступницы уже совершали следующий шаг.
Евгений вёл группу.
Теперь это было проклятием. Евгений вёл, но не вёл — он лишь отмерял метры мучительных шагов. Рана в бедре пылала, с каждым шагом, парализуя ногу. Это была не просто рана, а якорь, замедляющий их всех до скорости черепахи . Они плелись, а время висело в воздухе.
Ветер, пахнущий гнилой хвоей и холодной водой, разорвал на мгновение серую пелену дождя. Иван прислонился к шершавой коре сосны, пытаясь перевести дух. Каждый мускул горел, каждый сустав скрипел от усталости и сырости. Они брели уже несколько часов почти вслепую, увязая в подушках мха и спотыкаясь о скользкие, невидимые под водой корни.
Кувалда, шедшая впереди, обернулась. Ее лицо, обезображенное шрамом и злобой, было похоже на каменный обломок.
— Останавливаемся, — прохрипела она, и это прозвучало не как предложение, а как приговор. — Кто дальше уйдет, тот сдохнет сегодня.
Изможденная Малина молча сползла по стволу березы на землю, закрыв глаза. Вода моментально просочилась сквозь ее худую телогрейку, но, казалось, ей было уже все равно. Николай же, всегда державшийся на почтительной дистанции от обеих зечек, вдруг зашевелился. Он скинул со спины свой потрепанный вещмешок и вытащил оттуда скрученный трос и два сравнительно ровных шеста.
— Что копаешься? — настороженно бросила Кувалда, ее рука привычным жестом потянулась к засапожному ножу.
— Шину и костыль, — тихо, но четко ответил Николай, не поднимая глаз. Его пальцы, красные и опухшие, ловко работали, затягивая узлы. — Идти будет легче. И тропу… я знаю, как отсюда выйти. Не той дорогой, что мы шли. Есть старый волок, охотничий. Длиннее, но суше.
В воздухе повисло напряженное молчание. Иван наблюдал за Николаем, пытаясь прочесть в его сгорбленной спине, в нервном движении челюсти хоть намек на мотив. Искупление? Или это новый, хитро задуманный план? Николай был как мутная вода — кажется, видно дно, но на самом деле не разглядеть ни глубины, ни того, что скрыто внизу.
В сознании Ивана, как внезапная вспышка боли, прорезалось воспоминание. Не картинка — отмычка, сорвавшая ржавый замок в самой тёмной части его памяти. Знакомство с Николаем.
Не клуб, не бар. Место встречи — клетка. Камера предварительного заключения, воняющая хлоркой, потом и страхом. Иван попал туда на сутки — устроил в дорогом ресторане пьяный дебош с разбитыми бокалами и попыткой «поговорить по-мужски» с охраной. Глупо, жарко, стыдно. Он метался по казённому цементу, пытаясь выдохнуть перегар и бессильную злость.
Второй в камере сидел тихо, прислонившись к стене. Худой, почти незаметный. Николай. Его взяли за мелкое, почти позорное в криминальных кругах, мошенничество — кинул старушку на деньги за «чудо-лекарство». Сидел, не шелохнувшись, будто спал с открытыми глазами.
И вот тогда Иван его впервые разглядел. Надзиратель, бряцая ключами, грубо вызвал Ивана для беседы. Тот, огрызаясь, шёл к двери. И в этот миг, проходя мимо молчащей тени, он поймал его взгляд. Николай не спал. Его глаза, узкие и тёмные, следили за происходящим с холодной, хищной оценкой. Это был не взгляд жертвы или случайного прохожего. Это был взгляд тактика, высчитывающего силу, слабость, потенциал. Взгляд паука, замершего в центре пока ещё невидимой паутины.
Иван тогда отвёл глаза, сдавленно ругнулся на надзирателя. Но пронзительное чувство, странная смесь отвращения и любопытства, впилось ему в подкорку. Он не знал тогда, что этот тихий человек с хищным разрезом глаз станет его тенью, его проклятием и, возможно, единственным путём к спасению. Или к окончательной погибели.
– Коней на переправе не меняют, - дерзко ответила Кувалда..-- Пускай проводник дальше ведет группу к егерям. Если что-то не так, то пустим всех в расход, ну или прикроемся в случае полиции.
У группы не было единой цели после того, как они нашли Ольгу. Выжить? Да. Но как? Идти к кордону с ранеными? Разделиться? Остаться? Евгений, их естественный лидер, был обездвижен. Александр оспаривал авторитет, но предлагал лишь панику. Татьяна пыталась спасать, но не командовать. У Кувалды же цель была примитивна и ясна: выжить любой ценой, используя этих людей как щит, как ресурс, как разменную монету. Её воля, не отягощённая моралью или сомнениями, стала тем стержнем, вокруг которого, против их воли, начала вращаться реальность всей группы.
Инстинкт стаи перед хищником. Когда хищник чётко обозначен и яростен, стая может дать отпор. Но когда хищник — часть стаи, когда он медленно, методично отсекает самых слабых, остальные впадают в оцепенение. «Может, пронесёт. Может, следующим буду не я». Активное сопротивление требовало бы кого-то, кто первым бросится на верную гибель или серьёзный риск. Таким человеком мог бы быть Евгений, но он был прикован к носилкам. Для него самой важной целью стало спасти Татьяну. Он не мог оказывать ни физическое ни организованное сопротивление. Это могло бы повлечь для Татьяны последствия. В след за ним общая воля была добита. Они стали заложниками не столько двух женщин, сколько собственного страха, недоверия и надежды на то, что ужас обойдёт их стороной.
Они не смогли объединиться, потому что цементом для объединения должно быть либо доверие, либо единая, ясная цель перед лицом явного врага. У них не было ни того, ни другого. Лес дал им не испытание стихией, а зеркало, в котором отразились все их внутренние трещины: разбитые отношения, скрытые амбиции, взаимные обиды, городская наивность. Кувалда и Малина, сами того не планируя, стали мастерским дирижёром этого оркестра человеческих слабостей. Они не победили силой. Они победили потому, что их противники так и не стали «мы». Они остались разрозненной толпой «я», каждый из которых в решающий момент предпочёл спрятаться в надежде, что буря убьёт соседа, но пощадит его.
Именно поэтому они шли на поводу. Потому что путь, навязанный отчаянием и жестокостью, казался хоть каким-то путём. А чтобы выбрать свой, нужно было сначала договориться между собой. Страх не оставалось ни сил, ни мужества, ни времени.
— Показывай, — отрезал Кувалда, не благодаря и не одобряя. Просто констатируя факт, что он, вожак, принимает это к сведению. — Но если это ловушка, Проводник, сгниешь в этой трясине первым.
Евгений лишь кивнул.
Дождь закончился и вода быстро ушла в землю. Тропа стала легче. Николай, идя теперь вторым после Кувалды, действительно знал все тропы в этом лесу, но почему то не настаивал их показывать. Дышать стало чуть легче, ноги не хлюпали в ледяной жиже по колено. И в этой новой, зыбкой реальности путины у Ивана открылось второе зрение.
Он увидел Малину.
Не зэчку, не спутницу Кувалды, не опасную и гремучую смесь злобы и страха. Он увидел женщину. Ее волосы, выбившиеся из-под платка, были цвета темного меда, даже здесь, в этом сером аду. Грязь на щеке не могла скрыть хрупкости скулы, а усталость в глазах — их странной, миндалевидной формы. Она шла, спотыкаясь, и в момент, когда она чуть не упала, Иван инстинктивно подал руку. Их пальцы соприкоснулись на миг — шершавые, ледяные. Она резко дернула руку назад, но взгляд, который она ему бросила, был лишен привычной колючей ненависти.
— Не отставай, — прошипела она, но уже без прежней силы.
С этого мига он больше не мог отвести от нее глаз. Он видел, как вздрагивают ее плечи от холода, как шея, тонкая и уязвимая, выгибается под тяжестью вещмешка. В нем закипало что-то темное, иррациональное, абсолютно безумное для их положения. Не симпатия даже, а острое, до боли физическое влечение. Оно было опасно, как яд, и неотвратимо, как падение в пропасть. Он ловил ее запах — смесь пота, сырой шерсти и чего-то горько-травяного — и этот запах сводил его с ума.
А над всем этим, как громоотвод, возвышался Кувалда. Она стала не просто лидером, а тюремным надзирателем на воле. Ее приказы раскалывали тишину леса, как удары топора. Она распределяла скудную еду, выбирала место для привала, своим тяжелым, недобрым взглядом контролировала каждый шаг Николая. Он ловил каждое слово Кувалды, кивал, спешил выполнить, и в этой спешке была не помощь, а старый, знакомый до тошноты страх.
Однажды, когда Николай слишком медленно, по мнению Кувалды, разводил мокрый хворост для костра, та молча встала, подошела и взяла его за шиворот. Не ударила. Просто держала, вглядываясь в побледневшее лицо Николая..
— Ты у нас полезный стал, Никола. Ценный, — прошипела Кувалда, и её голос был сладок, как сироп из отравленных ягод. — Ценное — берегут. Пока оно нужно. Понял?
Николай понял. Все поняли. Альянс держался на страхе, на инстинкте выживания и на тайных планах, зревших в каждой голове.
Иван мечтал о тепле и о той, на кого нельзя было мечтать. Николай, возможно, строил в голове хитроумную комбинацию по спасению своей шкуры. А Кувалда просто правила этим маленьким, грязным, шатким миром, зная, что стоит ей дрогнуть — и они все сожрут друг друга.
Когда впереди, сквозь частокол стволов, наконец блеснула узкая, как лезвие, полоска воды — не болотной жижи, а настоящей реки, — никто не закричал от радости. Они просто остановились. Николай с облегчением посмотрел на Ивана, но в его глазах Иван снова увидел ту самую муть. Неясность.
«Легкая тропа» закончилась. Впереди была река, холодная и быстрая. А за ней — неизвестность. И мучительный вопрос: что же дальше?
Решили устроить ночлег возле реки.
Иван поймал на себе взгляд Малины. В этот раз она не отвела глаз. В ее взгляде была та же дикая, животная тоска, что клокотала и в нем. Это был не свет. Это было пламя, в котором можно было сгореть. Иван понял, что самый опасный переход только начинается.
Иван и Малина сидели у слабого, дымного огня, разделенные всего метром сырой земли, но пропастью обстоятельств. Тишина между ними была густой, звонкой, как натянутая струна.
— Боишься, что она проснется? — вдруг прошептала Малина, не глядя на него, всматриваясь в пламя.
— Да, — честно выдохнул Иван.
— Я тоже, — она обхватила колени руками, съежилась. — Всегда
Память пришла к Малине нестройной вереницей образов, а нахлынула разом, как тёплая волна, смывая границы между тогда и сейчас. Она закрыла глаза, и первой всплыла река — та самая, куда они с девчонками сбегали из детдома, будто на край света. Десятилетние ноги несли по пыльной траве, сердце колотилось в унисон с кузнечиками в придорожных зарослях. А потом вода — холодная, обжигающая свободой, и пар, поднимавшийся с её поверхности навстречу утреннему солнцу. Не просто пар, а дымка, живая и медлительная, завораживающая танцем. Они, три мокрые русалки, смеялись, глядя, как их детские тела и эта таинственная дымка становятся частью одного прекрасного, необъяснимого ритуала.
Лента памяти перемоталась вперёд, к шестнадцати. Душный коридор, пахнущий капустой и гуашью, и внезапная близость Его. Не поцелуй даже — столкновение. Испуганное, сладкое, неловкое прикосновение губ, после которого всё внутри замерло, а потом забилось с такой силой, что казалось, слышно через рёбра. Это был не любовь, но её огненный прообраз, первая искра, высеченная из камня одиночества.
И тогда же, не спрашивая разрешения, всплыло самое сокровенное и самое болезненное. Ей девятнадцать. Перрон, пронизанный ветром и страхом. Его рука, тёплая и твёрдая в её ладонях. Она не плакала, лишь сжимала его пальцы, пытаясь вложить в это рукопожатие на годы всю невысказанную нежность. «Вернись», — шептали её губы без звука. Он улыбался. Потом был отход поезда, превращающий его фигуру в маленькую точку, а затем и в ничто. Обещание, унесенное рельсами. Она долго ждала. Ждала письма, ждала весточки, ждала самого́. Но он не вернулся. Не героически, не трагично — просто не вернулся. Его образ растворился, как тот давний пар над рекой, оставив после себя лишь тишину, растянувшуюся на долгие годы.
Малина открыла глаза. Лес был наполнен обычным вечерним светом, но в нем теперь жил целый мир — пронзительный, незавершённый и навсегда её.
Не понятно, кто сделал первый шаг. Возможно, это был порыв ветра, бросивший искру между ними. Иван лишь почувствовал, как его рука сама потянулась через холод и мрак, коснулась ее обутых в рваный башмак ног. Она вздрогнула, но не отдернулась. Потом ее пальцы, цепкие и ледяные, нашли его пальцы, сплелись с ними в голодном, отчаянном замке.
Они двинулись навстречу друг другу, как слепые, не выпуская рук. Упали не на землю — в землю, в сырую, пахнущую грибами и тлением подстилку из хвои, за спиной — холодный камень. Не было прелюдных поцелуев. Было дыхание — короткое, прерывистое, в лицо, в шею, в спутанные волосы. Были руки, которые не ласкали, а хватали, цеплялись, впивались в ткань и в тело под ней, пытаясь удостовериться, что это не призрак, что вот оно — живое, теплое, пусть грязное и израненное, но доказательство того, что они еще не стали животными до конца.
Одежда была помехой, но сбросить ее означало обнажиться перед смертью и взглядом Кувалды. Они жались друг к другу поверх грубых тканей, теряя границы, теряя страх в этом безумном, молчаливом единоборстве. Это была не страсть. Это был акт сопротивления. Сопротивления холоду, страху, насилию, самой безнадеге. В ее сдавленном стоне, который она закусила его плечом, был весь ее ужас. В его ответном, глухом рычании — вся его скопившаяся ярость.
Очнулись они так же внезапно, разом, будто ударились о невидимую стену. Лежали, тяжело дыша, щека к щеке, не смея пошевелиться. Его рука все еще впивалась в ее бок, ее нога была перекинута через его колено. Где-то в двух шагах храпела Кувалда.
Понимание пришло позже, холодной, темной волной. Но сильнее понимания было другое чувство — острое, жгучее чувство обладания и… утраты. Он потерял нейтралитет. Перешел черту. Теперь она была не просто «зэк-женщиной». Она была его тайной, его слабостью, его мишенью для врага.
Он почувствовал, как по ее щеке скатывается что-то горячее и быстро исчезает в вороте телогрейки. Слеза. Он не видел ее лица. Молча, как воры, они расплели свои тела, отползли на прежние места. Костер догорал. Рассвет был еще далеко.
Утро ворвалось в палатку не светом, а звуками. Не птичьими трелями, а тяжелым, влажным гулом пробуждающегося леса. Иван открыл глаза, и первым делом его взгляд наткнулся на потрепанную краешку топографической карты, торчавшую из кармана рюкзака. Вчерашняя усталость и туман отступили, и в голове, с холодной ясностью, сложилась мозаика.
Он выполз наружу. Воздух был густой, пахший прелой хвоей и сырой землей. Лагерь — из нескольких палатках , закопченный котелок на холодном костре — казался жалким пятном на теле бескрайней, молчаливого леса. Иван медленно повертел головой, сверяя пейзаж с картой в памяти. Эти пологие холмы, поросшие корявым ельником… Эта петляющая, почти исчезнувшая тропа… Он мысленно наложил на местность сетку археологических отчетов, прочитанных когда-то из любопытства.
Район предполагаемых курганных захоронений III-IV века. Неисследованный.
Сердце у него не забилось чаще, нет. Оно, наоборот, будто замерло, стало тяжелым и холодным, как речной булыжник. Жадность — та, что тихая и всепоглощающая — поднялась из глубины души не огнем, а леденистым пластом.
Из соседней палатки выбралась Кувалда, потягиваясь и потирая сведенную сном шею.
— Могила, а не утро. Кофе бы… — пробормотала она.
— Кофе подождет, — голос Ивана прозвучал непривычно ровно. — Мясные консервы последнюю банку вчера умяли. Нужно дичи искать. На охоту сходим.
Кувалда удивленно хмыкнула:
— Охоту? С чего это? До базы дня два, не помрешь.
— Помрем, если сил не будет, — отрезал Иван, уже собирая свой рюкзак. Внутри все было спокойно. Спокойно и ясно. — Эти места, говорят, глухарем богаты. Раз уж занесло сюда — грех не воспользоваться.
Уговорить было нетрудно. Голод окутывал всех участников группы
– С кем пойдешь?
–С Николаем, он единственный кто умеет охотиться. Могу взять Малину, если конечно она умеет стрелять.
– Пойдешь с Николаем. Один патрон вам. Так что в ваших интересах прийти с дичью.
Они ушли вглубь леса, оставив лагерь пустым и безмолвным.
Иван вел. Он не искал звериных троп, он читал местность, как книгу. Склоны, ложбины, выходы камней. Он искал не живого, а мертвого. Вечность, спрятанную под мхом.
Пещера нашлась неожиданно, будто земля сама разверзлась, чтобы их впустить. Неглубокий провал у подножия поросшего соснами холма, почти скрытый завесом колючей ежевики. Вход был узким, с него сыпалась глинистая земля.
— Что тут может быть? Лисица, наверное, — неуверенно сказал Николай, щурясь в черноту.
— Посмотрим, — Иван первым протиснулся внутрь.
Холод. Могильный, недвижимый холод. И тишина, которую не нарушал даже ветер. Фонарь выхватил из тьмы стены, испещренные странными, стершимися от времени насечками. А потом луч скользнул по дну.
Николай, втиснувшийся следом, ахнул. Звук был коротким, придушенным влажным воздухом пещеры.
Это было не просто золото. Не слитки, не монеты. Это было искусство. Изящные, тончайшей работы гривны, оплетенные звериным орнаментом, в котором угадывались волки и олени. Браслеты с бирюзой, темно-синей, как ночное небо. Серьги в форме крошечных птиц, их перья переданы чеканкой тоньше паутины. Серебряные чаши с позолотой, на которых замер в вечной пляске целый мир мифических существ. Все это лежало в небольшом углублении, будто ждало. Тысячу лет ждало.
— Господи… Сокровище… — прошептал Николай, опускаясь на колени. Его пальцы, дрожа, потянулись к ближайшей гривне.
Иван не шевелился. Он смотрел. Смотрел на мерцание металла в луче фонаря. Смотрел на согнутую спину Николая. В голове, тихо и методично, как счетовод, начались расчеты. Вес. Стоимость на черном рынке. Как вывезти. Куда деть. Свидетель.
Мысли слились в один ослепительный, неоспоримый вывод. Было тихо. Очень тихо. Даже собственное дыхание не слышалось.
Николай поднял голову, его лицо светилось детским восторгом.
— Вань, ты представляешь?! Мы… мы найденыши! Мы…
Он не договорил.
Иван даже не помнил, как в его руке оказался тяжелый, обмотанный кусок базальта, валявшийся у входа «для защиты от зверя». Помнил только короткий, экономичный взмах. Помнил глухой, влажный звук, который издал камень, встретившись с затылком. Помнил, как широко открылись, потом остекленели глаза Николая. Как его тело, не издав больше ни звука, осело на пол пещеры, навзничь, прямо на рассыпанные сокровища. Одна из серебряных птичек-серёг звякнула о камень.
Тишина вернулась. Но теперь она была другой. Глухой, завершенной, принадлежащей только ему.
Иван отдышался. Рука не дрожала. Он методично, без суеты, перетащил тело в дальний угол пещеры, за груду камней. Засыпал землей и щебнем. Работу не спеша, тщательно. Потом так же тщательно собрал сокровища в свой походный мешок, оставив лишь пару невзрачных браслетов — для отвода глаз, если что. Он осмотрелся. Все было чисто. Только на одном из камней, у входа, темнело маленькое, почти незаметное пятно. Он стер его мхом.
Выйдя из пещеры, он на секунду замер, давая глазам привыкнуть к свету. Лес жил своей жизнью, ни о чем не подозревая. Иван глубоко вдохнул. Воздух больше не пах тайной. Он пах свободой. Закопав рюкзак в 10 шагах от пещеры. Улыбнулся свинцовому небу.
Он вернется. Через месяц, через год, когда шум уляжется. Он найдет это место. Оно теперь только его.
На обратном пути он выстрелил в случайную белку и бережно положил ее в запазуху. Дичь. Прекрасная дичь.
Когда он вышел к лагерю один, Наталья встревожилась.
— А где Коля?
Иван пожал плечами, лицо его было усталым и пустым.
— Разминулись в чаще. Я кричал, кричал… Наверное, заблудился. Надо ждать или идти на кардон, поднимать людей.
В его голосе звучала идеально сыгранная нота тревоги. И где-то глубоко, под слоем ледяного спокойствия, тихо ликовал черный, алчный пульс. Он был хозяином леса. Хозяином смерти. И скоро, очень скоро, станет хозяином древнего золота, которое теперь навеки принадлежало только ему.
Наталья погрузилась в воспоминания.
Сначала не картинки, а ощущения. Лекарственный укол адреналина в сердце, от которого холодеют пальцы. Давление в висках. И туман. Не метафорический, а самый настоящий, белёсый, живой, пожирающий звук и форму. Карелия. Майские праздники. Тот проклятый, пропитанный сыростью рассвет.
Она выскользнула из палатки, утопая в коленях в молочной киселе тумана. Десять шагов за кустик — и лагерь перестал существовать. Палатки, смех друзей, запах кофе — всё растворилось, будто его и не было. Остался только лес: древний, безразличный, дышащий влажным холодом в спину.
Двое суток.
Это не был поиск пути. Это был распад личности под давлением тишины. Голод скручивал желудок холодным узлом. Холод проникал внутрь костей, делая их хрупким стеклом. Сознание то сжималось до точки — «следующий шаг, только следующий шаг», — то расплывалось в панической арифметике отчаяния. Она пила воду из мшистых луж, жевала кору. И всё время слышала за спиной тихие шаги. Свои же.
А потом — дым. Едкий, жирный, с запахом гари и… мяса. Не оленя. Что-то другое. И голоса. Хриплые, перебивающие друг друга, уже подгулявшие. Она поползла на звук, как животное, уже не веря в спасение, а просто следуя инстинкту — к теплу.
Они сидели у костра, двое, с обветренными, жестокими лицами. Ружья прислонились к ели. На ржавой рогульке над пламенем чернела какая-то маленькая тушка. Они увидели ее, вылезающую из чащи, покрытую грязью и страхом, и замерли. Не с состраданием. С холодным, оценивающим интересом, как на диковинного зверя.
«Смотри-ка, лесная фея приблудилась», — хрипло рассмеялся один, с шрамом через бровь.
Её отогрели грубым шерстяным одеялом, втолкнули в руки жестяную кружку с обжигающим, отвратительным чаем с самогоном. Дали кусок жилистого мяса. Она ела, давясь, её трясло, а они наблюдали. Их взгляды ползали по ней, липкие и тяжелые, как руки. Алкогольный угар висел в воздухе сладковато-гнилостным туманом, гуще карельского.
Шрамоватый сказал что-то на ухо второму, коренастому. Тот усмехнулся, обнажив желтые зубы. Страх, который Наталья забыла в лесу, вернулся — острый, конкретный, животный.
«Отогрелась, красавица? Теперь и нас погрей», — шрамоватый двинулся к ней, его движения стали размашистыми и точными.
Одеяло стало саваном. Грубые руки, запах дешевого табака, перегара и пота. Хриплый смех прямо над ухом. Коренастый держал её, а Шрам давил всей тушей. Мир сузился до борьбы за глоток воздуха, до отвратительной близости чужой кожи. Её сознание, замутненное, на грани, вдруг выдало чудовищно четкую картинку: тушка на огне. Маленькая. С тонкими костями.
В её теле что-то щелкнуло. Не ярость. Холодная, слепая ярость была раньше. Это было иное — чистая, нерассуждающая машина выживания. Она рванулась не от них, а сквозь них, локтем в гортань, и в пах коленом ноги. Раздался стон, хриплый мат, и хватка ослабла. Она выскочила из-под одеяла, как пуля, в темноту леса.
За спиной взревел пьяный крик: «Держи её!» Прожектор фонаря заплясал между деревьями, выхватывая стволы, как тюремные решетки. Она бежала, не чувствуя ног, сбивая кожу о ветки, падая, поднимаясь. Выстрела не последовало. Или она его не слышала? Им, наверное, было проще не стрелять. Искать. Охотиться.
Она бежала, пока в легких не осталось воздуха, а в голове — мыслей. Выбежала на колею, протоптанную техникой, поползла по ней на четвереньках. И увидела свет. Не костра. Тусклый, желтый, гаснущий свет керосиновой лампы в окне покосившейся избы. Деревня. Какая-то. Безымянная.
Она не кричала. Она просто рухнула на порог того дома, царапая дверь обмороженными пальцами.
Теперь, спустя годы, Наталья сидела возле палатки, рассматривая свои ухоженные руки. Но под ногтями, казалось, всё ещё застыла та земля. А в ноздрях стоял тот самый запах — смесь хвои, сырой земли, дыма и тления.
Друзья вместе с МЧС нашли ее , в той деревне. Но она всегда, каждый день, с того самого утра, знала: что-то навсегда осталось в том тумане. И это что-то, наконец, начало шевелиться, Это был страх леса и страх остаться в нем одной..
Тишина в лагере была густой, пропитанной разочарованием. Воздух, который утром пах надеждой и хвоей, теперь отдавал холодным пеплом и страхом. Все пятеро — Катя, Степан, Кувалда и тихая Малина — уставились на тощую тушку белки, которую Иван швырнул к потухшему костру. Этого «трофея» хватило бы разве что на ложку бульона. А Николая все не было.
— Зря потратили полдня, — голос Кати прозвучал как удар хлыста, ровно и безэмоционально. В нем не было упрека, только констатация краха.
Никто не возразил.
Все разбрелись по палаткам.
Мысль о том, что нужно вставать и идти, висела в воздухе тяжелым камнем, но тела отказывались повиноваться. Слишком много сил ушло на эти бесцельные блуждания по лесу, который с каждым часом становился все враждебнее. Хотелось лишь заползти в скукоженные, влажные палатки и впасть в оцепенение, грея себя картинками из чужих жизней: вот сейчас зашумят лопасти вертолета, яркий луч выхватит их из темноты, сильные руки подхватят... Но не было ни луча, ни шума. Их никто не искал. Эта мысль была страшнее голода.
У жалкого огонька, который Иван все же сумел раздуть, сидел только он один. Пламя отражалось в его глазах не теплом, а холодным расчетом. План рожденный в голове, оттачивался, как клинок. Бежать. Один. Эта орава слабаков тянет на дно. Но без палатки, без спальника... это уже не побег, а изощренное самоубийство. Он мысленно прокручивал карту. От домика они ушли едва ли на двадцать километров за эти кошмарные дни. До ближайшей дороги — минимум двое суток. Если не заблудиться. Если хватит сил. Если.
Тень упала на него, и он вздрогнул, не оборачиваясь. Рядом присела Малина. Она не говорила ничего, но ее молчаливое присутствие было навязчивым, как сигнал бедствия. Он чувствовал на себе ее взгляд — недоверчивый, испуганный, но цепкий. Она тянулась к нему, как к последнему оплоту силы, и это раздражало и обнадеживало одновременно.
— Давай убежим, — прошептал он так тихо, что слова почти потонули в треске поленьев. Он повернул к ней лицо, и в его глазах не было ни капли тепла, только сталь. — Я не хочу с ними оставаться. С обреченными.
Марина замерла.
— У меня есть карта, — он наклонился ближе, и его дыхание коснулось ее щеки. — Не та, дурацкая, туристическая. Настоящая. Я нашел кое-что у той пещеры. Золотые монеты, может, еще что. Спрятал. Мы выберемся отсюда, переждем, а потом вернемся и заберем. Доберемся до Новороссийска. Оттуда — танкером в Турцию. Паспорта, деньги, свобода. Все. Вместе.
Он говорил ровно, убедительно, вплетая в свою речь «мы» и «вместе», как прочную нить. План был безумен, пахнул дешевым авантюризмом и пылью дешевых детективов. Где-то в глубине, в том месте, где живет инстинкт самосохранения, у Малины зазвенел тревожный колокольчик. Подвох. Но колокольчик тонул в грохоте отчаяния. Перед ней был шанс. Не на сокровища — на спасение. На союз с сильным. И страх быть брошенной здесь, в этом зеленом аду, оказался сильнее.
Она медленно кивнула, не в силах вымолвить слово. Доверие, хрупкое, как лед в ноябре, было дано.
Их сговор поглотила надвигающаяся ночь. Она накрыла лес черным, непроглядным саваном, еще более плотным и тревожным, чем предыдущая. Где-то в этой темноте пропадал Николай. А у костра, под притворным безразличием, Александр наблюдал за парой краем глаза, сжимая в кармане рукоять ножа. Он не слышал слов, но уловил шепот и этот кивок. Этого было достаточно.
Ночь должна быть долгой. И не для всех — последней.
Жар поднимался волнами, как прилив ядовитого моря. Евгений лежал на жесткой пенки в углу палатки, его лицо, обычно смуглое от солнца, было серо-восковым. Рана на бедре, та самая, от шальной пули, пульсировала густым, горячим болью. Повязка, которую Татьяна меняла каждые несколько часов, уже не помогала. От нее исходил сладковато-гнилостный запах, который не перебивала даже хвоя, набросанная у входа.
Татьяна вышла из палатки, протирая руки влажным, уже грязным полотенцем. Ее собственные руки дрожали от усталости, но она сжала их в кулаки, впиваясь ногтями в ладони. Боль — ясная, конкретная — помогала не думать о том, что антибиотиков нет, что температура у Жени уже за сорок, что его бред становится все бессвязнее. Она была их медсестрой, их психологом, их стержнем. Если она сломается, сломаются все.
— Как он? — спросил Александр, прислонившись к стволу сосны. Его глаза, узкие и внимательные, не отрывались от лица Татьяны, выискивая правду, которую она могла скрыть.
— Держится, — коротко бросила она, но голос дал трещину.
— «Держится», — передразнил ее Иван, вылезая из-за повозки. Его куртка была расстегнута, на лице — вечное раздражение. — Он умирает, Таня. И мы все здесь сдохнем, если будем сидеть на этом проклятом болоте. Надо было идти.
— А ты что, знаешь куда идти? — Александр шагнул к нему, сгруппировавшись. — Сидишь, строишь из себя стратега. Я видел, как ты шептался с Малиной. У Вас есть план? Припасы? Или что-то другое?
Тишина нависла густая, как туман над озером. Даже треск костра звучал приглушенно. Малина, чинившая порванный ремень, замерла. Татьяна почувствовала, как ледяная волна страха поднимается по спине.
— Ты что, обвиняешь меня? — голос Ивана сорвался на крик. Он рванулся вперед.
Это произошло стремительно. Иван бросился на Александра с рычанием. Они сцепились, как звери, покатились по мокрой хвое, выбивая друг у друга дыхание. Татьяна вскрикнула, пытаясь вклиниться между ними, но сильный толчок отбросил ее к повозке. Малина вскочила, но застыла на месте, глаза расширены от ужаса.
Драка, неуклюжая и яростная, переместилась к краю лагеря — туда, где земля обрывалась в небольшое, но скалистое ущелье, поросшее колючим кустарником. С обрыва доносился шум ручья.
— Прекратите! Вы с ума сошли! — кричала Татьяна, но ее голос тонул в хрипе и тяжелых ударах.
Иван, более тяжелый, прижал Александра к самой кромке. Земля под ногами была рыхлой от недавних дождей. Александр, изворачиваясь, рванул в сторону. Иван, потеряв точку опоры, с размаху ударил его в плечо, но его собственная нога съехала по скользкой глине. На лице промелькнуло чистое, детское недоумение. Руки взметнулись, цепляясь за пустой воздух.
И исчез.
Звук его падения — глухой, тяжелый стук, а потом тишина — был ужаснее любого крика.
Все замерли. Даже ветер в соснах стих. Александр, бледный как смерть, выполз от края, его руки тряслись. Татьяна, схватившись за голову, беззвучно шевелила губами. Малина первой опомнилась.
— Иван! — ее крик сорвался с губ. Она бросилась к обрыву.
— Малина, нет! Осторожно! — закричала Татьяна, но та уже карабкалась вниз по склону, цепляясь за корни и камни.
Внизу, среди валунов, лежало бездыханное тело Ивана. Голова была неестественно вывернута. Малина, спотыкаясь, подбежала к нему, и ее сразу вырвало. Она закрыла глаза, пытаясь прогнать тошноту и панику. Надо было проверить пульс, но она знала, что это бесполезно.
Ее взгляд упал на расстегнутую куртку Ивана. Из внутреннего кармана торчал уголок плотной, пожелтевшей бумаги. Рука сама потянулась к ней. Это была карта. Не современная, туристическая, а старая, самодельная, вычерченная чернилами, которые выцвели до ржавого цвета. На ней были обозначены холмы, река и крестик у слияния двух ручьев, пещера. Рядом с крестиком — старательная надпись: «Он».
Кровь стучала в висках. Весь ужас, вся скорбь моментально отступили, затопленные ледяным, пронзительным интересом. Она быстро сунула карту в свой карман, сердце колотилось как сумасшедшее. Подняла голову. Наверху, на фоне серого неба, маячили силуэты Татьяны и Александра.
— Он… — начала Малина, и голос ее сорвался. Она сделала паузу, чтобы он звучал более сломанно, более правдоподобно. — Он мертв.
Потом медленно, очень медленно стала подниматься наверх. Каждый камень под ногой, каждый сук теперь казался частью новой реальности. Реальности, в которой Иван был предателем или просто неудачливым искателем, а она, Малина, держала в кармане тайну, способную все изменить.
Когда она выбралась, Татьяна обняла ее, плача тихими, безнадежными рыданиями. Александр стоял поодаль, его лицо было каменной маской шока и вины.
— Мы должны… мы должны его похоронить, — прошептала Татьяна.
Малина кивнула, глядя в землю. Ее пальцы в кармане легонько терли жесткую бумагу карты.
«Нет, — думала она, глядя на дымок костра, на палатку, где бредил умирающий Евгений, на сломанные лица друзей. — Мы никуда не пойдем. Мы останемся здесь».
Но теперь у нее был план. И тихая, холодная тайна, которая ждала своего часа. Пока все будет казаться концом, для нее это могло стать началом.
Тишина в лагере была обманчивой. Малина, притворяясь спящей, лежала неподвижно, пока равномерное дыхание Кувалды не превратилось в низкий храп. Только тогда она, затаив дыхание, сунула руку под сложенную куртку. Холодная, чуть шершавая поверхность топокарты радовали пальцы. Это был их шанс. И ее смертный приговор, если кто-то узнает. Сжав карту в комок, она впихнула ее в потайной внутренний карман палатки, за молнию. Сердце колотилось так громко, что казалось, вот-вот выдаст ее всем.
– Утром выдвигаемся без этих бедолаг. Заберем у них остатки еды, сухую одежду, если конечна она у них есть и уйдем. Осталось не далеко, я слышала как Евгений рассказывал Кати где кордон. Обойдем кордон и мы свободны.
У нас есть два ружья. Не Пропадем, — сквозь сон сказала Кувалда.
В ее голосе не было места для вопросов. Малина почувствовала, как по спине пробежал холодок. Двенадцать километров. Только они двое. С картой, которую она не могла показать.
Ночь вползла в лагерь, черная и беспросветная. Давление страха и холод с сыростью сделали свое дело. Проклиная все на свете, Малина выползла из палатки. Воздух был ледяным, звезд не видно. Она сделала несколько шагов в сторону от лагеря, за плотную стену темного леса, чтобы хоть как-то скрыть смущающие звуки.
Она так и не услышала шагов. Только короткий свист рассекаемого воздуха и страшный, обжигающий холод в шее. Удивление пересилило боль. Она попыталась вдохнуть, но вместо воздуха в горло хлынула теплая, соленая жидкость. Мир опрокинулся, замедлился. Она увидела темный силуэт ствола над собой, мутнеющее небо сквозь ветви. Потом — только холод земли, впитывающий ее тепло и жизнь. Последней мыслью было: «Карта…»
Крик Натальи разорвал утро, как бритва. Это был нечеловеческий звук, полный такого чистого ужаса, что даже Кувалда вылетела из палатки не в своей привычной грубой манере, а каким-то животным прыжком. Наталья стояла, трясясь, в двадцати метрах от лагеря, уставившись на землю. На землю, где в неестественной позе лежала Малина, а вокруг ее шеи и плеч чернела на серой почве огромная, жирная лужа.
Кувалда застыла на секунду. Ее лицо, всегда собранное в маску жесткого контроля, дрогнуло и рассыпалось. В глазах вспыхнула не просто ярость, а слепая, всепоглощающая бестия. Она взглянула на Наталью — первую, кто увидел, кто был рядом.
— Ты! — хриплый рык вырвался из ее глотки. — Это ты!
Наталья, все еще не в себе, только покачала головой, беззвучно шевеля губами. Этого было достаточно.
Удар Кувалды был стремительным и чудовищно сильным. Кулак врезался Наталье в висок. Та рухнула, даже не вскрикнув. Но Кувалда не остановилась. Она набросилась на лежащую, била ногами в живот, в грудь, в лицо. Глухие, влажные звуки ударов по телу смешались с хриплым дыханием мстительницы.
— Прекрати! С ума сошла! — Степан бросился между ними, пытаясь схватить Кувалду за руки.
Та, не раздумывая, развернулась и со всей силы ударила его прикладом ружья, которое инстинктивно схватила на выходе из палатки, в голову. Раздался короткий, костяной щелчок. Степан осел на колени, глаза закатились, и он безжизненно повалился на бок.
Только тогда Кувалда остановилась, тяжело дыша. Дымка ярости медленно рассеивалась, открывая ужасную картину. Наталья лежала в неестественной позе, ее лицо было неузнаваемо. Из разбитого рта текла алая струйка. Грудь не поднималась.
Степан застонал, приходя в себя. Он откатился к Наталье, судорожно обнял ее, прижал к себе.
— Наташ… Наташенька, — бормотал он, тряся ее. — Открой глаза… всё хорошо…
Но ничего хорошего не было. Тело в его руках было безвольным и тяжелым. Жизнь ушла через разбитый висок и разорванные внутренности. Он поднял голову, и в его глазах, полных слез и непонимания, отразилось лицо Кувалды. Лицо убийцы его жены.
Безумие, тихое и абсолютное, сошло на него. Он аккуратно положил Наталью на землю, встал. Не глядя ни на кого, схватил ближайший рюкзак — свой или чужой, неважно — и бросился бежать. Просто бежать. От крови, от трупов, от этой женщины с ружьем. В лес, в зеленую, безмолвную пасть.
Инстинкт выживания сработал у Кувалды быстрее, чем мысли. Убежит — приведет кого-нибудь. Расскажет. Она, не раздумывая, вскинула ружье и рванулась за ним, исчезнув в чаще с треском ломаемых веток.
В ошеломленной тишине, пахнущей смертью и порохом, остались Татьяна, Катя, Александр и полубредящий Евгений, прикованный к носилкам. Его мысли метались, что-то беззвучно шепча.
Татьяна первая пришла в себя. Она подползла к Евгению, наклонилась.
— Женя, что? Что ты говоришь?
Он схватил ее руку, его пальцы были холодными и цепкими. Глаза, мутные от жара, на секунду прояснились, в них вспыхнул странный, ясный огонь.
— Бежать… вам… сейчас, — прохрипел он, слюнявя губы. — Пока она… гонится за ним.
Он заговорил быстро, отрывисто, вытаскивая из глубин памяти четкие, как лезвие, ориентиры: «Скала, как голова лося… ручей, повернуть против течения… старая гарь… от нее на запад… до столбов ЛЭП… вдоль них на север… кардон увидите.»
Его слова падали, как драгоценные камни, в ледяную воду их ужаса.
— Мы не можем вас бросить, — прошептала Катя, глядя на рану Евгения.
— Умрем все, если останетесь, — выдавил он. — Она… всех перебьет. Или… тот, кто резал Малину. Идите. Доберитесь. МЧС… милицию…
Александр, бледный как смерть, молча кивнул. Он уже сгреб в охапку две полупустые фляги и пачку галет. Катя, стиснув зубы, чтобы не расплакаться, бросилась к своим вещам.
Они ушли через минуту, не оглядываясь, сливаясь с лесной мглой. Их уход был не побегом, а последней молитвой. Лучом безнадежной надежды, за которую уже заплатили слишком высокую цену. А в лагере пахло кровью, и тишину нарушал только прерывистый, хриплый бред Евгения да безмолвный укор двух тел, лежащих на холодной земле.
Последние двести метров до кордона были самыми трудными. Не потому что крутыми — перевал остался позади, тропа здесь расползалась вширь, — а потому что силы подходили к концу. Каждый камень под ногой плыл, каждый вдох обжигал лёгкие ледяной сыростью. Туман, цеплявшийся за склоны с утра, не рассеялся, а лишь сгустился к вечеру, превратившись в моросящую изморось, которая скользила по скалам, делая их коварно-скользкими.
Александр шёл впереди, как и всегда. Его широкая спина в промокшей насквозь куртке была для Кати единственным ориентиром. Он оборачивался каждые несколько шагов, его лицо, осунувшееся за трое суток этого безумного “марш-броска”, было маской усталости. Но в глазах ещё теплился огонёк — тот самый, что зажёгся в них, когда они решились на этот побег.
«Ещё чуть-чуть, — прошептал он хрипло, протягивая ей руку через особенно коварный участок, где тропа сузилась до козьей тропинки над глубоким кулуаром. — Видишь огни?»
Катя, стиснув зубы, кивнула, хотя не видела ничего, кроме молочно-серной пелены. Она верила ему. Ей нужно было во что-то верить, иначе сознание, уже подтачиваемое паникой и холодом, сдалось бы полностью. Они шли от того места, где нашли его. От того, что нашли. Мысли об этом заставляли ноги двигаться быстрее, даже когда мышцы кричали от боли.
Её ботинок, подошва которого была почти стёрта, съехал с мокрого валуна. Катя вскрикнула, рука рефлекторно вцепилась в выступ скалы, обдирая кожу на пальцах до крови.
— Кэт! — Александр рванулся назад, его пальцы с силой впились в её запястье, стабилизируя. Сердце у неё бешено колотилось где-то в горле. Они стояли так, слившись в дрожащем объятии над пропастью, шум которой заглушался туманом.
— Всё... Всё в порядке, — выдавила она.
— Нет, не в порядке. Дай я... — Он попытался переставить ногу, чтобы занять более устойчивую позицию, помочь ей перебраться.
Это был скользкий, плоский камень, покрытый невидимой плёнкой влажных лишайников. Позже, бесконечное количество раз прокручивая этот момент в голове, Катя будет думать, что это было неестественно скользко. Как будто его натёрли салом.
Нога Александра отправилась в путь, который он для неё не планировал. Он поехал вперёд, резко и неуклонно. На его лице не было даже испуга — лишь чистое, детское недоумение. Он отпустил её запястье, возможно, инстинктивно, чтобы не утянуть за собой.
— Ал...
Он не крикнул. Он исчез. Просто растворился в тумане, как призрак. Сначала был звук — глухой стук тела о выступ, короткий, оборванный. Потом — скрежет камней, сорвавшихся вслед. Потом — тишина. Такая оглушительная, что в ушах зазвенело.
Катя застыла, вцепившись в скалу, не веря. Она ждала, что он крикнет, засмеётся, скажет «Всё нормально, просто поскользнулся». Но туман молчал. Он вобрал в себя звук и Александра, и теперь был полным, самодовольным.
«Нет. Нет, нет, нет, нет».
Это не было слово, это был пульсирующий стук в висках. Она поползла к краю, осторожно, животом по мокрому камню. Заглянула вниз. Туман клубился, словно живой, не давая увидеть дно кулуара. Только темнота, нарастающая в глубине.
— Ал-лександр! — её крик разбился о вату тумана, вернулся к ней жалким, придушенным эхом.
Ничего.
Она лежала так, может, минуту, может, десять. Холод камня просачивался сквозь куртку, смешиваясь с внутренним леденящим оцепенением. Потом в голове, сквозь шум паники, зазвучал его же голос, последний вменяемый приказ: «Добирайся до кордона. Любой ценой».
Любой ценой.
Катя поднялась. Колени подкашивались, зубы выбивали дробь. Она больше не смотрела в пропасть. Она смотрела вперед, туда, где, по его словам, были огни. Она пошла. Не шла — бежала, спотыкаясь, падая, сдирая кожу на коленях и ладонях, поднимаясь и снова бежала. Тело работало на чистом адреналине, разум был пуст, в нём остался только образ: деревянная изба, огонь в печи, люди. Спасение.
Огни появились внезапно. Два желтых квадрата окна, проступившие сквозь пелену, как спасение. Последние пятьдесят метров она проползла. Стучала в тяжелую, обитую железом дверь кулаками, пока не открыли.
Внутри пахло дымом, влажной шерстью и щами. За столом сидели двое мужчин в камуфляже, егеря. Удивлённо подняли на неё глаза. Она стояла на пороге, вся трясясь, мокрая, в грязи и крови, не в силах вымолвить слово.
— Девушка? Ты как здесь? Откуда? — спросил старший, с сединой в бороде, отодвигая тарелку.
Катя открыла рот. Издала странный, хриплый звук. И тогда потекли слова. Сначала медленно, путано, потом всё быстрее, сбивчивее, перескакивая с одного на другое. Про поход. Про то, что они нашли Ольгу.. Про то, как они поняли, что за ними следят. Про зечек и грибников. Про то, как они сбежали, боясь даже крикнуть, шли без остановок, сбивая ноги. Про Евгения. Про камень. Про тишину после падения.
Она рыдала, давилась слезами и словами, хватая ртом воздух. В её истории не было логики, только клубок ужаса, вины и леденящего страха.
Егеря переглянулись. Молодой, щуплый, с испуганными глазами, беспомощно смотрел на старшего. Тот медленно встал, подошёл к Кате.
— Успокойся, дочка. Сядь. Выпей. — Он налил ей стакан крепкого, пахнущего самогоном, сунул в ледяные пальцы. — Ты говоришь, парень твой сорвался? Где?
— На подходе... к перевалу... там, где ... — она пила, жидкость жгла горло, возвращая частичное ощущение реальности.
— Чего вы там забыли в такую погоду? И что за зечки? Что за Ольга? — Его голос был спокоен, даже мягок, но в глазах читалась профессиональная настороженность. Настороженность человека, который слушает бред переохлаждённой, шоковой туристки, у которой, судя по всему, погиб напарник.
— Мы не просто так! — взвизгнула Катя, хватая его за рукав. — Вы должны поехать! Найти его! И... и посмотреть там, в лагере! Там есть... им нужна помощь!
— Никуда мы сейчас не поедем, — твёрдо сказал егерь, высвобождая рукав. — Ночь, туман, обвалопасно. Утром организуем поиск. А ты ляг, отогрейся. И... успокойся. К тому же беглицы не наше дело. Этим пусть занимается полиция.
Он был уверен что это просто бред. Беглицов искали в другом месте, 50 км южнее.
«Он мне не верит», — пронзила её холодная мысль. Они оба не верят. Для них она — истеричная дурочка, наглотавшаяся страху у костра и потерявшая парня по своей же глупости.
Молодой егерь потупился. Старший отошёл к рации, начал что-то говорить вполголоса, сообщая о «происшествии с туристами». Его слова были сухи, официальны. «Пострадала одна, второй предположительно сорвался в пропасть... в состоянии сильного эмоционального возбуждения, говорит непонятное...про заключенных и грибниках. Да, утром...»
Катя сжалась на лавке у печки, прижав колени к подбородку. Дрожь не проходила. Сквозь стёкла запотевшего окна на неё давила всё та же белая, слепая тьма. Она выдала им историю, похожую на бред. Потому что правда была страшнее любого бреда. А теперь она осталась одна. С этой правдой. И с тем, что туман за окном был не пуст. Он был полон.
Щель под дверью пропустила струйку холодного воздуха. И вместе с ним — едва уловимый, знакомый по кошмарам последних ночей запах: сырой земли, старой крови и чего-то чуждого, металлического.
Катя замерла, вслушиваясь.
Снаружи, в плотной завесе тумана, мягко шуршал камень о камень. Как будто что-то очень тяжёлое и осторожное переносило вес с одной опоры на другую. Прислушиваясь к звукам из избы.
Она стиснула зубы, чтобы не закричать снова. Крик уже не помогал. Помогало только молчание. И надежда, что крепкие запоры на двери выдержат до утра.
Но надежда была хрупкой, как лёд на весеннем ручье. А шёпот камней за дверью становился всё внятнее.
Через пять минут ее страхи растворились и она уснула.
Гул над лесом нарастал медленно, с далекого шума превращаясь в оглушительный рев, от которого сбивалось дыхание. Две вертолетные птицы МЧС с красными полосами врезались в серое небо, зависли над поляной, поднимая ураган из хвои и прошлогодней листвы.
С земли это выглядело как внезапное вторжение иного мира. Но первыми из-под деревьев вышли не бойцы в масках, а люди в синих жилетах с надписью «ПОЛИЦИЯ» и в обычной, будничной форме оперативников. Они шли цепью, решительно и тяжело. С ними были собаки — нервные, натянутые как струны овчарки, рвущиеся вперед.
В лагере поднялась сумятица. А в центре бури, возле кострища, стояла она — Кувалда. Лицо, изборожденное жизнью и злобой, не выражало ни страха, ни покорности. Только холодную, наглую решимость матерой рецидивистки, которая из-за решетки смотрела на таких оперов не раз.
— Стоять! Руки за голову! — рявкнул старший группы.
В ответ Кувалда, не говоря ни слова, резким движением выхватила ружье. Длинный, ржавый ствол сверкнул в тусклом свете. Время замерло на долю секунды.
Первый выстрел прогремел с ее стороны. Глухой, картечный удар ударил по воздуху, дробь с визгом врезалась в деревья над головами опергруппы. Крики, команды, лай собак смешались в какофонию. Люди в синем бросились в укрытие, за деревья, за поваленные стволы.
— Прекрати! Брось оружие!
Но Кувалда уже взводила курок для второго выстрела, отступая к палаткам, ее глаза метались, ища путь к отходу. Она была как загнанный зверь, знающий, что назад дороги нет. Второй залп ушел в землю перед наступающими, подняв фонтан грязи.
Все это время Ольга оставалась в тени, призраком у костра, молчаливой и невидимой. Пока полиция пыталась обезвредить Кувалду, Ольга пробрались в палатку Кувалды и достала второе ружье, с одним патроном.
Она вышла из палатки, как тень, подняла ружье. Движение было плавным, почти медитативным. Ни слова, ни вздоха, только ледяная концентрация. Целилась она не спеша, вдыхая запах масла и холодной стали. А потом палец плавно сжал спуск.
Кувалда дернулась, будто споткнулась о невидимую преграду, ружье выпало из ее ослабевших рук. Она осела на колени, потом медленно, тяжело повалилась на бок. Яркое алое пятно расползалось по грязной куртке на груди. Все закончилось так же внезапно, как и началось. Глаза, еще секунду назад полые огнем, остекленели, уставившись в хмурый таежный небосвод.
Тишина, наступившая после выстрелов, была оглушительной.
За ней пришла работа. Медики МЧС в оранжевых костюмах уже бежали через поляну. Они нашли Евгения — бледного, с перевязанной ногой, но живого. Его осторожно уложили на носилки, начали ставить капельницу. Рядом, не отпуская его руку, сидела Татьяна. Ее пальцы впивались в его ладонь, будто пытались удержать саму жизнь. Она не рыдала, не издавала звуков. Слез на ее запыленном, осунувшемся лице не было. Просто из ее широко открытых, сухих глаз лилось такое безмолвное, страшное горе, что смотреть на нее было невыносимо. Она смотрела на Евгения, шептала что-то беззвучное, и все ее тело будто кричало от боли, которую не могло издать.
В двадцати шагах от них, у крайней полуразвалившейся палатки, полиция пыталась вести допрос с Ольгой. Она сидела на сырой земле, поджав ноги, спина прямая, неестественно неподвижная. Не далеко от нее ,в грязи, лежала Малина. Девушка была бледна, как воск, и уже давно не дышала. Ольга не смотрела на людей. Она смотрела в лес , и в ее собственном взгляде не было ничего — ни ужаса, ни печали. Только пустота. Полное, всепоглощающее оцепенение, глубокая трещина в реальности, куда провалилось все, кроме этого холодного воспоминания о Сергее. Ее подняли под руки и увели, но ее голова была повернута назад, глаза все так же невидяще цеплялись за то место, где она оставила часть своей души.
Вертолеты МЧС, лопасти которых продолжали нестись с низким гулом, стали их спасением. В одну птицу погрузили Евгения на носилках. Татьяну усадили рядом, она не отпускала его руку даже когда машина, вздрогнув, оторвалась от земли. В другую Ольгу, все так же молчаливую и отсутствующую.
Вертолеты, тяжело набрав высоту, развернулись и взяли курс на город, оставляя внизу затихающую поляну, перечеркнутую синими лентами полиции, и тишину, в которой теперь навсегда осталась лежать Малина. Они везли живых — израненных, опустошенных, но живых — к больничным стенам, где должно было начаться долгое возвращение. Или просто попытка жить дальше.
Весна наступила внезапно, сокрушая хрустальную крепость зимы одним влажным, теплым дыханием. Снег осел, обнажив черную, жадную до солнца землю. Из-под гнилой листвы и мокрого валежника тянулись к свету первые, робкие побеги. Лес не пел, он хлюпал, капал и тяжело вздыхал, освобождаясь от оков.
Сергей, егерь, шел по знакомой тропе к Западному кордону. Идти было тяжело — не снег мешал, а грязь, чавкающая, липкая, высасывающая силы. Но приказ был приказ: проверить, не устроили ли в заброшенном домике привал браконьеры после паводка.
Воздух пах прелой листвой, сырой корой и бесконечной свежестью. И еще чем-то кисловатым, чужим. Он почуял это раньше, чем увидел. За поворотом, на небольшой поляне, притулившейся к ручью, стояли палатки. Вернее, то, что от них осталось. Три ярких, когда-то дорогих «домика» теперь были бесформенными, провалившимися тряпками, засыпанными хвоей и грязью. Каркасы погнуло. Рядом — почерневший круг кострища, вмёрзшие в землю консервные банки, пустая пластиковая канистра.
«Туристы, — с отвращением подумал Сергей. — Нагадили и свалили. Как всегда».
Он обошел лагерь, пиная сапогом мусор. Никого. Ушли, наверное, еще осенью, когда ударили первые морозы. Бросили всё.
От нечего делать он расстегнул полуобвалившуюся палатку, самую большую.
Внутри — скомканный спальник, покрытый плесенью, рваный рюкзак. Вонь стояла затхлая, мертвая. Сергей уже хотел уйти, но его взгляд упал на внутренний карман палатки, оттопыренный, с надорванной молнией. Рука, привыкшая на ощупь находить в темноте патроны или фляжку, сама сунулась внутрь.
Пальцы наткнулись не на полиэтилен или фольгу, а на плотную, пористую от сырости бумагу. Он вытащил. Пожелтевший, промокший насквозь и высушенный неравномерно лист, вырванный из старой топографической тетради. Линии на нем расплылись, чернила превратились в сине-фиолетвые кляксы, но кое-что разглядеть можно было.
Это была карта. Не печатная, а самодельная, нарисованная чьей-то торопливой, но уверенной рукой. Были обозначены его лес, эта самая поляна, ручей .А дальше — уходящая вглубь заповедной зоны, за буреломы и старые гари, пунктирная линия. Она вела к месту, отмеченному не крестиком, а маленьким, тщательно выведенной надписью “Он”.
Сергей замер.
Сердце, привыкшее к размеренному ритму лесной жизни, вдруг глухо, тяжело стукнуло под ребро. Он огляделся. Лес вокруг был прежним: капающий, живой, равнодушный. Никаких следов, кроме звериных. Ни звука, кроме журчания воды.
Сколько лет она пролежала здесь, в этом кармане? Кто были эти туристы? Случайные люди, нашедшие тайник и не сумевшие им воспользоваться? Или те самые «нехорошие люди», так и не дошедшие до конца? Вопросы висели в сыром воздухе, не находя ответа.
Сергей долго смотрел, на пунктир, уводящий в самое сердце пещеры, куда он сам заходил лишь раз в жизни — спасать заблудившегося геолога. Там было гиблое место. Красивое и мертвое.
Потом он медленно, очень медленно пожимал плечами. Плечи, отягощенные не только годами, но и грузом простой, ясной правды: в эти дебри ведет лишь одна дорога — дорога к неприятностям.
Он аккуратно сложил хрупкий лист, сунул его в карман. Пусть лежит.
Он глотнул полной грудью холодного весеннего воздуха. Достал из нагрудного кармана смятую пачку «Беломора», прикурил от ветронепробиваемой зажигалки. Табак горчил, дым стелился тяжелой струйкой, растворяясь в тумане, поднимающемся от земли.
Сергей повернулся и пошел к кордону, где нужно было просто запереть дверь и составить рапорт. Он шел, и за его спиной, в мокрой тьме брошенного лагеря, тайна сокровища, прикрытая плесенью и равнодушием леса, который помнит всё, но ничего не рассказывает.
Продолжение следует...